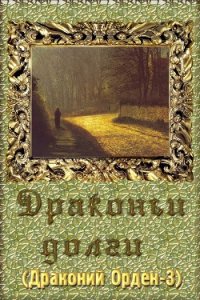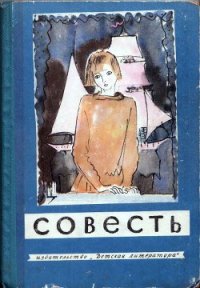Atem (СИ) - "Ankaris" (читаем книги онлайн .txt) 📗
Мы вошли в тёмную узкую подсобку заваленную коробками, макулатурой и тому подобным библиотечным хламом. Застыв друг перед другом, точно два дуэлянта, никто не решался выстрелить первым. По её учащённому дыханию, по движению губ, по сурово прорезавшимся морщинкам на лбу и изогнувшимся бровям было понятно, что она, силясь, собиралась что-то сказать. «Je suis… Pardonne-moi». И опять французский. Опять слёзы и истерика. Опять я ничего не понимаю. Цирк какой-то. Все эти невротические припадки напоминали мне искусные, хорошо отрепетированные драматические постановки. Но тут случилось что-то, что на сей раз заставило усомниться в «искусственности» момента: Эли упала на пол бесшумной стопкой одежды, словно её самой под платьем и не было. Сперва мне даже показалось, что она потеряла сознание. Но она лишь согнулась в странной молитвенной позе, разрыдавшись в голос, пряча лицо за трясущимися ладонями, и всё безустанно нашёптывая то ли какие-то извинения, то ли упрёки. Я опустился рядом, обняв её. Вслед за стекавшими по раскрасневшимся щекам ручейками слёз от меня явно ускользало что-то ещё. Занозой засевшая в сознании фраза «мы — разные», заставляла перебирать все возможные страхи, что могли её мучить. «Всё дело в нашем возрасте?», «в этой разнице?», «в моей работе?», «в твоей?», «проблема в месте жительства?» — спрашивал я, на что она отрицательно мотала головой, ёрзая лбом по моей рубашке, всхлипывая громче. «Чего ты хочешь? Ты хочешь быть со мной?» И в этот момент в моём сознании вспыхнул образ распятия, потому как своим утвердительным кивком Эли сейчас невольно нарисовала на моей груди крест, тем самым жестом-движением перечеркнув все её отрицательные кивки и суть всех моих вопросов, оставив только один, имеющий значение. Она всё безутешно глотала слёзы не в силах вымолвить и слова. Я стал отвечать на свои же вопросы за неё. Стал говорить о том, что всё это пустяки. Говорить о том, насколько кажущиеся проблемы решаемы. Я говорил и говорил, пока её дыхание наконец не выровнялось. А потом снова говорил, и всё для того, чтобы только не сидеть в онемевшем сумраке комнаты.
Эти отношения были покруче самых крутых американских горок. Мне нужно научиться пристёгивать ремни. С какой небрежной лёгкостью Эли умудрялась сбрасывать меня с сиденья вагонетки, когда та достигала высшей точки «мёртвой петли», но каждый раз, несясь на бешеной скорости вниз по кольцу, она оказывалась ровно подо мной, так, чтобы я успел ввалиться обратно на место, не расплескав мозги по рельсам. Мне нужно научиться пристёгивать ремни.
— Поедем в Бохум вместе? — как-то инстинктивно предложил я.
— Ты уезжаешь? — спросила она, всё ещё пряча лицо за моей курткой.
— Всего на пару дней. Поедешь со мной? — повторил я, веря в то, что только там мы могли найти спасение от бесконечных драм.
— Я не могу. Катя на выходных до субботы, из-за того что в понедельник я ушла в обед, а во вторник и среду взяла больничный.
— Разве тебя больше некому заменить?
— Есть, но я не хочу никого вмешивать… Я рискую потерять работу, если о нашем с Катей «графике» доложат начальству.
— К чёрту работу.
— Штэфан, нет. Я не могу подвести Якова.
И я отступил. Так как если бы я продолжил эти уговоры, мой тон опустился бы до омерзительно жалкого. Какая-то часть меня, наверное, та, где дремала апатичная гордость, презирала моё безвольное сердце. Но эта пленительная сила, что таинственной вечерней дымкой окутывала образ Эли, скрывала все мои предрассудки за шифоновой пеленой её притягательного обаяния.
Мы долго и тепло прощались, как если бы навсегда. Мне даже стало не по себе. Я всё просил рассказать, какие сомнения делали её поведение столь переменчивым. «Всё хорошо», — шептала она мне в губы, словно скрывая ответы в коварстве своих коротких поцелуев. — «Поговорим обо всём, когда ты вернёшься». Но после подобных слов мне и уезжать-то не хотелось. «Dis-moi», — просил я уже на французском, полагаясь на какую-то слепую веру силы родных ей звуков. — «Dis-moi», — решительно повторил я, заметив, как беззвучно она что-то сказала.
78
Все два часа до Бохума её ответ горел на моих губах солёным привкусом уж больно недалёкой правды. Путаясь то ли в словах, то ли в мыслях Эли сбивчиво говорила о том, как сложно ей открыться передо мной, быть самой собой, видя в моих глазах лишь языки пламени азарта. Я прокручивал в голове воспоминания наших встреч, пытаясь отыскать эпизоды, в которых вёл себя как гнусный мошенник, имеющий на руках краплёную карту или фальшивого козырного туза, — таких не нашлось. Более того, я чаще сбрасывал карты, если понимал, что моя рука могла оказаться сильнее. Нет, мне опять подсунули какую-то лживую правду. Всё слишком просто. Из-за подобной ерунды люди не бьются в истерике.
79
С момента нашего расставания всё изменилось так кардинально стремительно, что я едва не вывалился из своего места, когда жизнь совершала новый манёвр высокого пилотажа. Поезд только подъехал к Дортмунду, а Эли позвонила дважды. В первый раз — интересуясь, собрал ли я вокруг себя очередную «коллегию вагонных философов», во второй — рассказывая о том, что дома снова запорошил снег.
Может, мне и впрямь нужно перестать искать зачатки логики в поступках женщин? Может, её там и нет. Может, своими действиями я только подталкиваю Эли к дотошному анализу хаотичных вспышек её неуправляемых эмоций. Однако, как бы парадоксально это ни было, я в самом деле получал странное мазохистическое наслаждение от сумасшедшей реальности. Без этих грандиозных падений и пневматических взлётов я не ощущал себя живым. Они служили колоссальным катализатором моему творчеству.
Вот серая высотка и башни отеля уже маячат в окне. Вот и Бохум. Другой Бохум. Удивительно, но после того, как Эли побывала здесь, город словно переродился для меня, окрасившись цветами никогда не выходящего из моды Парижа: грузные масленые улочки, порхающие акварельные прохожие, над головами которых не небо, а пастельные небеса, украшенные пушистой ватой молочных облаков. Всё здесь изменилось, скрывшись под эфемерной завесой звенящей французской сексуальности. Теперь даже индустриальный шум города звучал как-то сентиментально-мелодично. Город пах осенней меланхоличной сыростью, пронизанной ароматами бесчисленных бистро, отчего сердце трепетно билось в сладостном предвкушении волнующей встречи.
80
На тренировку мы не поехали. Ксавьер ещё толком не оклемался после простуды. А отголоски похмелья во мне, вместе с болезненной слабостью, превратили тело в вялый мешок мяса. И, заказав еды из кафе, где работала вертлявая официантка, мы уселись перед гипнотическим экраном телевизора, слушая экономические новости и упиваясь лживым счастьем «взрослого мира». Роняя хлебные крошки на свою же футболку, Майер невнятно бубнил о том, что ситуация на американском рынке недвижимости выглядит угрожающе, а потом вдруг переключил канал, крайне недовольно фыркнув. Я поинтересовался, всё ли в порядке с лейблом, ведь одно своё подразделение GUN Records уже закрыли. Ксавьер пожал плечами, мрачно ответив: «Поживём-увидим».
На экране появилось лицо Джека Николсона с его извечной экспрессивно-коварной ухмылкой. И, вспомнив о первом законе «кажущейся связи явлений», я слишком громко и горько усмехнулся, зная наперёд, какую именно фразу произнесёт Николсон следующей, потому что видел этот фильм не раз. Его герой, психически неуравновешенный писатель, лет шестидесяти, с чувством болезненного перфекционизма, приходит в издательство, где у дверей лифта с ним заговаривает миловидная фанатка-секретарша:
— Вы не представляете даже, о чём я узнала из ваших книг, — восторженно говорит та.
— И о чём же вы узнали? — спрашивает Николсон, явно не разделяющий её энтузиазма.
— Что всё-таки есть мужчины, в состоянии понять женщину, — дрожит голос секретарши, и, поднимаясь с кресла, она прикладывает ладони к своему лбу и левой груди, указывая на святость мест, хранящих разум и сердце.