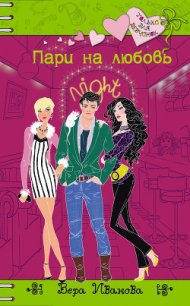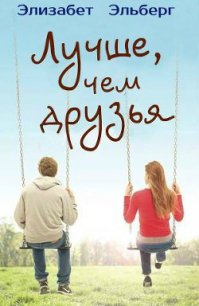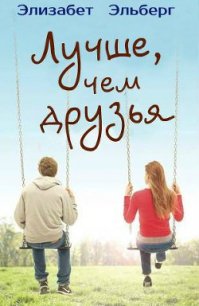Лучший друг девушки - Кауи Вера (книги полностью .TXT) 📗
Которыми пользовалась только она одна.
От Билли так и несло ими.
Ливи взяла бокал, с невозмутимым видом заняла свое место по другую сторону стола.
Билли был с Глорией.
Глория была с Билли.
От него разит ее духами. Значит, он находился достаточно близко к ней, так близко, что его кожа пропиталась ее запахом. Так как оба были потными, а их разгоряченные тела тесно прижимались друг к другу.
Билли переспал с Глорией – и только что. Он буквально вылез из ее постели, унося запах ее тела.
Ливи хотелось наброситься на него, завизжать, вцепиться в него когтями, изодрать его в клочки.
Вместо этого она невозмутимо сделала глоток.
Лучшая ее подруга.
Как же он мог?
Как же она могла?
Как же они могли?
Пальцы ее судорожно вцепились в бокал, силой воли она заставила себя медленно потягивать виски, хотя на самом деле жаждала запустить этим бокалом прямо ему в лицо.
Перекинув через плечо атласный, шириной в три фута, палантин – черный с одной стороны и белый с другой, зажав в одной руке бокал виски, а в другой держа миниатюрную плоскую косметичку, выложенную чередующимися, как у зебры, полосками алмазов и черных жемчужин, зевнув, она сказала:
– Я лично иду спать, у меня сегодня был длинный-предлинный день. Спокойной ночи...
Билли на прощание помахал ей рукой, прежде чем снова уткнулся носом в виски.
– Приятных сновидений...
Ливи поднялась в свою спальню и заперла за собой дверь на ключ. Горничная уже спала: Ливи не видела смысла заставлять часами ждать ее только ради того, чтобы убрать в гардероб одежду, что она вполне могла сделать и сама. Платье она повесила на специальную, подбитую ватой вешалку, палантин отправился на свою полку, атласные туфельки остались проветриваться; на следующий день их расправят на колодке и уберут. Атлас и кружева пошли в специально для этих целей оставленную корзину, откуда они будут изъяты и вручную отстираны; за ними последовали невидимки-колготки. Драгоценности были убраны в резную, из атласного дерева выложенную изнутри мягкой материей шкатулку. Наконец, завернувшись в шелковое японское кимоно, она сунула ноги в бархатные бабуши и вошла во встроенный шкаф, располагавшийся рядом с ее занавешенной кроватью. Из него она достала большую, плотную кожаную подушку, бывшую когда-то частью софы. Положила ее на середину кровати. Ключом, висевшим у нее на браслете-талисмане и никогда не покидавшим ее запястья, открыла ящичек, вынула тонкую малаккскую трость. По локоть закатав широкие рукава кимоно, она взяла трость в руку, сделала ею пару пробных взмахов в воздухе, а затем, подойдя к кровати, стала что есть силы стегать тростью подушку, сначала пыхтя, а затем чуть не плача от напряжения, отчаяния и злости, с каждым ударом повторяя: «Потаскуха! Подонок! Потаскуха! Подонок!» Она колотила подушку до тех пор, пока кожа на ней, и без того хранившая следы глубоких порезов, не лопнула и наружу не вылезла обивка.
Прерывисто дыша, с онемевшей рукой, она уронила трость, резким движением смахнула с кровати подушку и повалилась на нее сама, широко раскинув руки, с вздымающейся и опускающейся миниатюрной грудью. Устало смежив веки, она лежала до тех пор, пока дыхание ее не восстановилось, после чего она вернула подушку в шкаф, заперла трость в ящик, затем пошла в ванную и минут десять постояла под мощным напором воды. Вслед за этим проделала свой ежевечерний ритуал. Сперва специальной жидкостью промыла лицо, подготовив его к нанесению крема, который втерла снизу вверх в кожу лица и шеи длинными продольными мазками, затем легкими ударами кончиков пальцев наложила вокруг глаз второй, особый крем, третий крем сильными массажными движениями нанесла на руки. Наконец почистила зубы, обрабатывая их электрической зубной щеткой, прополоскала рот, выключила свет и вернулась в спальню, в которой тоже погасила свет. После этого раздвинула тяжелые, парчовые, подбитые войлоком портьеры. Осталось совсем немного – калачиком свернуться в большом глубоком кресле, придвинутом прямо к окнам, выходившим на террасу, расположенную на высоте сорокового этажа, на 85-й Восточной улице. Там и провела она остаток ночи, уставившись на светлеющее небо, размышляя, сопоставляя, прикидывая... Только под утро, измученная и разбитая, забралась она в постель и, как в яму, провалилась в глубокий сон.
Через несколько дней после разговора Дэвида с Ливи, в четыре часа утра Джеймза разбудило урчание стоявшего у его изголовья телефона. Звонил, что-то лопоча и постоянно прерывая свою бессвязную речь большими паузами, Лоуренс Ладбрук, ныне пребывавший в немилости.
– Я готов услышать от вас самое худшее, Джеймз, – взмолился он. – Со мной все кончено?
– Она очень расстроена, господин Ладбрук. И очень обижена.
– О Господи... у меня даже в мыслях не было – я вовсе не имел в виду... я только хотел... но он сказал мне, что так будет лучше, а я не мог смотреть ей в глаза – особенно после... – Голос совсем прервался, и Джеймзу, напрягшему слух, показалось, что он слышит глухие рыдания на другом конце провода. Но когда Ладди вновь заговорил, голос его был тверд. – Передайте ей, что я не хотел причинять ей зла. Мне показалось, что произошла обычная размолвка, а не окончательный разрыв, да и он уверял меня, что между женщинами такое часто случается... а потом все снова улаживается... Ливи, сказал он, никогда ни на кого долго не держит зла, а кому же еще знать лучше, как не ему... а мне следовало бы лучше знать его, как он вызнал все обо мне... но я даже представить себе не мог... что он так жесток, так порочен... он знал, что мне ужасно стыдно... что я не смогу показаться ей на глаза, а надо было бы. Надо было бы невинно смотреть ей в глаза и лгать... как он лгал мне... какая двуличность... никогда бы не подумал, что у него может быть два лица: одно столь обольстительно невинное, другое столь зловеще порочное. Так знайте же, Джеймз, он не знает, что такое любовь... – Ладди всхлипнул. – Бедная Ливи, она понятия не имеет, какое чудище родила...
Голос Ладди совсем пропал; Джеймз услышал, как звякнуло стекло о стекло. Да он нализался как свинья, мелькнуло у него в голове, и не может остановиться, желая в вине утопить непотопляемую свою вину!
– Господин Ладбрук, почему бы вам не написать леди Банкрофт письмо? И не рассказать ей то, что вы только что рассказали мне. Вы же знаете, она всегда готова выслушать любого человека.
– ...беда... – услышал Джеймз до того, как голос, то возникавший, то исчезавший, снова прервался. – В этом нет никакого смысла... только злоба... я бы никогда не пошел к Глории, если бы он сам не предложил мне это сделать... он клялся, что все это не более чем буря в стакане. И это оказалось еще одной ложью. Глория совершила ужасную вещь... неудивительно, что Ливи считает меня предателем...
– Госпожа Гуанариус объяснила вам причину разрыва между ними? – попытался прозондировать почву Джеймз. Обливаясь слезами, Ливи рассказала ему правду. Однако он сомневался, что Глория Гуанариус сознается кому-то в том, что предала самую лучшую из подруг. И хотя слыла она архисплетницей, то лишь потому, что обожала посудачить о грехах других, свои же стремилась держать за семью печатями. Даже в той волчьей и эгоистичной среде, которая называлась Нью-йоркским Светом, предать Несравненную, переспав с ее мужем, было пределом хамства. Даже здесь существовали вещи, делать которые было Непристойно.
Едва Джеймз привел в порядок разрозненные мысли, как Ладди снова возник на другом конце провода.
– Глория была пьяна, – печально икая, сообщил он Джеймзу, – да и я был не лучше. Но как только она рассказала мне об этом, я понял, что он со мной проделал. Я только не могу понять, зачем он это сделал? Знаю, что все это – до мелочей – было продумано заранее. Он наверняка знал, что со мной произойдет... и все заранее учел...
– Кто знал и учел? – спросил Джеймз. Ему не нужен был ответ, он страшился официального подтверждения своей догадки.