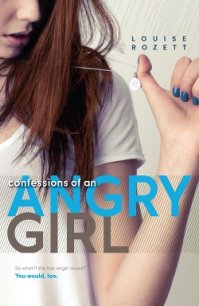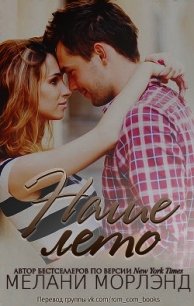Признания без пяти минут подружки (ЛП) - Розетт Луиза (читать книги полные .txt) 📗
— Он умер два года назад, — говорит Питер.
— Полтора года назад, — поправляет мама.
— Зачем ты это делаешь? — спрашиваю я ее. — Потому что Дирк — кинозвезда, а папа был всего лишь инженером?
Мама кажется огорошенной, будто готовилась ко всему, что я могу сказать, за исключением этого.
— Я очень горжусь твоим отцом... тем, каким он был умным, и как он пытался помочь людям в Ираке восстановиться. А о том, что папа был инженером, а Дирк — актер, даже говорить не стоит.
— Это неправда! — возражаю я.
— Роуз, люди разного возраста по–разному переживают горе, — говорит Кэрон, когда становится ясно, что мама не будет реагировать на мои слова. — Взрослых скорбь может заставить задуматься о том, что они наполовину прожили жизнь — и им хочется жить как можно более полной жизнью. Молодым людям скорбь может приносить чувство брошенности. Ты переживаешь из-за того, что Дирк собирается забрать у тебя маму?
Мой мозг подсказывает, что если я так отношусь к маме, то буду только рада, если Дирк ее заберет — да и папа, наверно, тоже был бы рад. Но слезы, бегущие по моим щекам, говорят о чем–то совсем другом.
— Если она собирается жить полной жизнью, встречаясь с другим человеком, не моим папой, тогда мне нужен мой сайт.
Слышу, как мама хлюпает носом — она тянется к коробке передо мной и достает из нее носовой платок.
— Я чувствую, что взаимодействие с людьми на этом сайте постоянно держит тебя в состоянии скорби по отцу, и ты не можешь уйти от него, — говорит она.
— Я и не хочу от него уходить.
Я слышу панику в своем голосе, но даже не пытаюсь ее скрыть. Мысль о том, чтобы уйти, выводит меня из себя. Сейчас я помню о папе через скорбь. Если бы у меня не было печали по нему, он бы просто уплыл и растворился на задворках моей жизни, которая будет продолжаться без него. Как будто его никогда и не существовало.
— Я не хочу его отпускать.
— Папа и скорбь — это две большие разницы, — говорит мама.
Мой мозг входит в режим «не—могу—понять». Как я могу его удерживать, не скорбя по нему?
Мама сморкается.
— Я хочу, чтобы ты помнила его, но не хочу, чтобы его смерть стала всей твоей жизнью. А когда ты постоянно проверяешь сайт — не написал ли на нем кто-нибудь — я чувствую, что именно это и происходит. А если кто-то напишет то, что тебя расстроит, и ты опять три дня не будешь выходить из своей комнаты?
Краем глаза я вижу, что Питер смотрит на меня.
— Это было совсем другое, — говорю я. — Там уже несколько месяцев нет комментариев именно о папе. Теперь пишут про группы поддержки и все такое.
Произнося эти слова, я осознаю, что, несмотря на все мои аргументы в пользу сайта, его предназначение изменилось, пока я не уделяла ему внимание. Прошло время, и он без моего ведома стал чем–то еще.
Может быть, и со скорбью происходит то же самое — хочешь ты этого или нет.
— Давай договоримся, — говорит мама. — Я верну функцию комментирования, если ты уберешь фотографию.
— Какую фотографию? — спрашивает Питер, полностью выпрямляясь и больше не пытаясь скрыть свой интерес.
Когда я выкладывала там фото родителей, прощающихся в день папиного отъезда, я не знала, что из-за этого могут быть неприятности. Правда не знала. Но, думая об этой фотографии сейчас, я понимаю, почему она доводит маму практически до безумства. На ней папа стоит рядом с черной машиной, которая ждет его, чтобы увезти в аэропорт, а около него на земле стоят чемоданы. Мама идет к нему, чтобы его обнять. Ее лица не видно, но если внимательно присмотреться к ее рукам, которые тянутся к нему, кажется, что она хочет схватить и остановить его. А у него на лице неподдельная печаль. Он явно не хотел уезжать.
— Фото, где мы прощаемся, — говорит она.
Могу сказать, что Питер знает, какое фото она имеет в виду.
— Почему ты хочешь, чтобы она его убрала? — спрашивает он.
Маме требуется время, чтобы ответить.
— Потому что на нем очень ясно видно, что мы совершили ошибку, — наконец произносит она. — Он не хотел ехать. И я не хотела его отпускать. Но он поехал, несмотря ни на что, потому что мы так решили и придерживались своего плана.
Она говорит так, словно все это происходит сейчас, на подъездной дорожке около нашего дома. Она качает головой и роняет руки на колени.
— Это прозвучало злобно, — говорит Кэрон.
— Он никогда не должен был там оказаться.
Мы с Питером смотрим друг на друга, удивленные, что она говорит настолько прямо.
— Для тебя фотография означает именно это? — спрашивает Кэрон.
Она кивает.
— Это был наш последний шанс передумать.
— Мы должны были что-то сказать, — говорит мне Питер.
Мама закрывает глаза.
— Дети не зря не участвуют в принятии таких решений.
— Но мы знали, что это безумие, — говорит он, откашливаясь, когда у него надламывается голос. — Мы говорили об этом.
— Милый, это не входило в твои обязанности — что-то говорить.
— Но что, если... — начинаю я.
Ее глаза открываются.
— «Что если» значения не имеет, — говорит она, прерывая меня.
— Закончи свою мысль, — говорит мне Кэрон.
Мама опускает голову и ждет.
— Что, если бы мы с Питером сказали вам с папой, что он не должен ехать? — спрашиваю я.
Мама качает головой, но я вижу ее вопросительный взгляд.
После небольшой паузы Кэрон говорит:
— Роуз, несколько месяцев назад ты бы сказала, что твоя мама виновата в поездке Альфонсо в Ирак. Теперь это звучит так, будто вы с Питером считаете, что это ваша вина и что вы могли все предотвратить.
— Если мы с папой не могли остановить запущенный процесс, то и вы ни черта бы не смогли, — говорит мама, пока я придумываю, как отреагировать.
Мы не каждый день слышим от мамы слова типа «черт». Как будто она убеждает себя в своей правоте и вере в то, что мы никоим образом не могли внести свой вклад.
Уверена, что во время паузы, которая за этим следует, мы все втроем представляем параллельную вселенную, в которой мы с Питером помогаем родителям принять правильное решение. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, мы садимся в гостиной и говорим им: «Мы лучше никогда не пойдем в колледж, чем отпустим папу в Ирак, чтобы оплатить наше обучение».
В этой вселенной папа остается жив, а прямо сейчас мы сидим все вместе.
***
В книге Панофки, принадлежавшей маме Джейми, оказалось гораздо больше дат и пометок, чем я сначала подумала.
Я пользуюсь приложением на телефоне, подбирая мелодии к каждому упражнению по порядку, и каждый раз, когда я переворачиваю страницу, мое представление о ней становится чуть яснее. Сначала рукописные заметки просто напоминали ей об определенных вещах, которые нужно делать на занятиях, но примерно на середине книги они становятся все более и более личными. На одной из страниц она пишет: «Иногда я так устаю от пения, что могу заплакать». На другой: «Все такое громкое. Практически невозможно слушать». А ближе к концу есть заметка: «Он опять плачет. Опять. Опять. Это никогда не закончится. Ничего никогда не закончится».
Интересно, читал ли это Джейми? И если читал, то с какими чувствами?
Я отлистываю страницы на начало книги и начинаю петь первое упражнение — пока что я знаю его лучше всех. Я пою на октаву ниже с указанного момента, и это сложно для меня — ощущаю, что я мало тренировалась и не занималась вокалом. Тем не менее, я хорошо себя чувствую, как будто делаю физические упражнения, развивая мышцы.
Меня пугает внезапный стук в дверь. Я закрываю книгу и почему-то убираю ее в ящик стола. Открываю дверь, за которой стоит Питер.
— Что ты сейчас пела?
— Вокальное упражнение, — отвечаю я, чувствуя странное смущение, словно он застукал меня за тем, чего я делать не должна.
— Звучит как какая–то классика.
— Наверно, так и есть.
Он больше ничего не говорит, и я отступаю назад и сажусь на кровать. Он топчется в дверном проеме, смотря по сторонам. Уже несколько месяцев его нога не ступала в моей комнате. Когда его взгляд падает на потрепанную и изорванную библиотечную книгу «Юлий Цезарь», которую задал Кэмбер, а я еще не прочитала, он спрашивает: