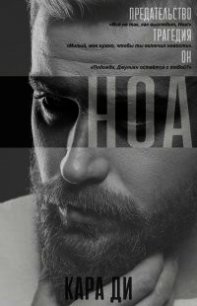Ревнивая печаль - Берсенева Анна (книги .TXT) 📗
Он снова помрачнел – как тогда, в фойе ливневского театра, – и Лера снова не поняла почему.
Саня высадил ее у арки, не заезжая во двор.
– У меня ведь есть ваш телефон, – сказала Лера, выходя из машины. – Я вам обязательно позвоню к открытию сезона, и вы придете, да?
– Как хотите, – пожал плечами Саня. – Если не в отъезде буду, приду.
Лера не знала, что еще ему сказать: так странна была его неожиданная мрачность, почти злость.
– Тогда… до встречи? – сказала она наконец. – Спасибо вам за каблуки!
Саня кивнул, не отвечая. Лера захлопнула дверцу, и джип стремительно сорвался с места, словно уходя от погони.
Часть вторая
Глава 1
Лера так волновалась перед открытием театра, как будто ей самой предстояло дирижировать или, по крайней мере, играть в оркестре.
Она из-за всего волновалась – даже из-за того, что ее темно-бордовое длинное платье вдруг показалось ей слишком тяжеловесным, хотя на самом деле оно было шелковое, невесомое и открывало плечи, повторяя их плавную линию. Лера даже чуть не решила его не надевать, хотя оно и сшито было специально для этого вечера, и очень шло к ее пышной стрижке – Митя сам сказал, глядя, как она одевается дома перед зеркалом.
И она понять не могла, как это Митя выглядит таким весело-невозмутимым!
– Ты что, совсем не волнуешься? – удивленно спросила Лера, зайдя к нему в кабинет перед концертом.
– Волнуюсь, – ответил он, глядя на нее блестящими смеющимися глазами. – Просто ужас, как я волнуюсь! Ну-ка, иди ко мне, дай я тебя обниму…
– Митька, перестань! – попыталась рассердиться Лера. – Что за глупости ты говоришь? Ты рубашку помнешь и выйдешь на сцену мятый!
Но, не обращая внимания на Лерины слова, Митя притянул ее за руку.
– А если тебя не обниму, то сознание потеряю от волнения. Упаду прямо на сцене, вот увидишь, – заявил он, прижимая ее к себе. – Слушай, может, дверь пока закроем?..
Он обнял ее всего на мгновение, но так, что Лера почувствовала, что и сама бы не прочь закрыть дверь хоть на минутку.
– Что у тебя в голове, Митенька! – рассмеялась она, упираясь руками ему в грудь. – Мэр пришел, министр культуры, еще кого-то ждут, одних охранников набилось ползала, а ты…
– Вот и хорошо, – не унимался он. – Как раз, пока ждут…
Неизвестно, как провели бы они последние минуты перед концертом, – наклонившись, Митя губами отодвинул бриллиантовую каплю, висевшую на цепочке между Лериных ключиц, – если бы в кабинет не вошел Сергей Павлович Гладышев.
Лера почти не знала Митиного отца. Он уехал в Штаты сразу после смерти Елены Васильевны и приезжал с тех пор всего однажды, вскоре после женитьбы сына. Она знала, что Сергей Павлович преподает в какой-то очень престижной музыкальной высшей школе, а его жена – концертирующая пианистка. Сергей Павлович был старше даже Елены Васильевны, а уж его нынешняя жена и вовсе годилась ему в дочери; сейчас ему было лет шестьдесят.
Войдя в кабинет, он кивнул Лере, хотя они недавно виделись дома, и сказал, обращаясь к сыну:
– Забыл вчера, Митя, после репетиции хотел тебе сказать… По-моему, ты слишком увлекаешься непрерывностью музыкальной линии. Все-таки Моцарт не Вагнер, почему же – бесконечная мелодия? И темп слишком свободный.
– Ты думаешь? – спросил Митя. – Вчера мне тоже показалось, а сегодня – не знаю… Как получится, папа, пока не могу сказать – я послушаю.
– Позволишь себе импровизировать? – усмехнулся Сергей Павлович.
– Можешь и так назвать. Хотя… это не совсем точно.
Лера видела, как при этом малопонятном и коротком разговоре переменилось Митино лицо. В глазах его, только что светившихся беспечностью, появилось что-то совсем другое – такое от Леры далекое…
– Я послушаю, – повторил он.
Лера не могла понять, отчего ей вдруг стало грустно. Она радовалась этому концерту – первому в новом театре – и тому, что все так красиво, и зал полон, и особенно – что Митя выглядит веселым и спокойным. И вдруг в нем мелькнуло что-то совершенно непостижимое – словно прилетело из другого мира, – и ей осталось только замолчать…
В первом отделении должен был быть Моцарт, во втором – Малер; про его симфонию Митя сказал, что в ней предугадана мировая война.
Лера не сразу пошла в директорскую ложу, хотя это было единственное место в зале, которое ей нравилось для себя, когда дирижировал Митя: оттуда было видно его лицо.
Она вошла в зал, когда слушатели расселись наконец и затихли, и оркестр уже сидел на сцене. Лера остановилась у правой двери зала, чувствуя, как сердце у нее то летит, то замирает в ожидании Митиного появления. И она боялась этого мгновения: когда он выйдет, такой незнакомый, такой далекий – как только что, во время разговора с отцом, – и вызовет к жизни музыку, в которой она почувствует все, что вообще может чувствовать человек, но не почувствует себя…
Чтобы успокоиться, Лера оглядела зал – и он ей понравился. Даже первые ряды, в которых сверкали бриллиантовые искры, а особенно последние, где видны были молодые и умные лица. Да и вообще, он был хороший, этот зал. Лера не могла бы внятно объяснить почему, но чувствовала его даже лучше, чем себя, – его живое волнение, и поддержку, и чуткость.
«Как же он этого хотел, боже мой! – вдруг поняла она. – Именно этого зала, и этих лиц, и ожидания музыки – здесь…»
Митя никогда не говорил с нею об этом, и Лера как-то даже не думала прежде о том, что значит в его жизни ливневский театр. То есть она понимала, конечно, что это очень важно для него, да и сама она столько сил этому отдала и готова была отдавать еще больше.
Но только теперь, глядя на зал в последние мгновения перед Митиным появлением, Лера вдруг увидела все это одним ясным взглядом – и аллею в полузаросшем парке, и страшное, неузнаваемое Митино лицо на больничной подушке, и живой свет этих окон сквозь пелену дождя…
И почему-то – наклоненную над ручьем березу, со ствола которой смотрел печальный темный глаз.
Она вспомнила, как Митя сказал ей в Венеции: «Ты представить не можешь, как я хотел бы вернуться, для меня нет соблазнов нигде…»
Он вернулся, у него был этот театр, и Лера хотела теперь только одного: быть здесь с ним.
Задумавшись и заглядевшись, она снова – как всегда! – пропустила мгновение, когда Митя вышел на сцену, и вздрогнула только от грома аплодисментов.
Лера даже музыки почти не слышала от волнения – только смотрела, с какой мощной сдержанностью двигаются его руки, как меняется лицо с каждой новой мелодией. Струнные играли с такой страстью, как будто от каждого звука зависела их жизнь. Но удивительная, ни с чем не сравнимая моцартовская легкость сохранялась вместе с тем в каждом звуке.
Иногда ей казалось, что сердце у нее сейчас разорвется – когда она вдруг чувствовала боль в Митиных движениях. Лере непонятно было, почему появляется в нем эта боль от золотых, полных звуков труб, – но она была для нее не менее мучительна, чем для него.
Она не знала, надо ли зайти к Мите во время антракта, и решила, что не надо. Лера чувствовала, что нет в нем сейчас той веселой беспечности – пусть даже только внешней, – которая так удивила ее перед началом концерта. И ей не надо вмешиваться в то, что происходит с ним сейчас.
Зрители вышли из зала, и в фойе стоял тот неторопливый и легкий шум, который всегда сопровождает театральные антракты.
«Неужели они просто разговаривают о чем-то своем? – думала Лера, стоя за одной из колонн перед лестницей. – Или просто обсуждают, хорошо ли восстановлена мозаика на полу?»
Она не могла этого представить. Ей казалось, что даже теперь, в антракте, даже через стены невозможно не чувствовать того, что она чувствовала в Мите.
«Зайду! – вдруг решила она. – Зайду – не могу я его сейчас не видеть».
Она вышла из-за колонны и уже направилась к дальней лесенке за служебной дверью, по которой можно было подняться в Митин кабинет, – как вдруг увидела Тамару Веселовскую.