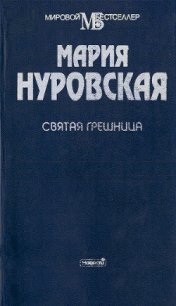Единственное число любви - Барыкова Мария (читать книги онлайн полностью без регистрации txt, fb2) 📗
— Но, Варенька, разве вам неизвестно, что разделение души и тела это… Вспомните сами, когда душа отделяется от тела? Ведь это — смерть. И больше ничего. О чем же вы говорите?!
Чай вдруг стал горьким и холодным, и фарфор предательски задрожал у меня в пальцах. Я поднялась. Гавриил остался сидеть — молча, держа в руке белую чашку.
— Только ничего не бойтесь, — уже в дверях услышала я. — Что бы ни было. Ни сейчас — ни потом. Донго!
Пес вскочил и шелковисто заскользил по моим ногам, отчего по ним разлился жар.
— Теперь идите. Где я живу — вы знаете. И помните, в октябре ведьмы не летают — это белки. Юные белки-летяги, поддавшиеся соблазну пролететь сквозь вдруг обнажившиеся ветви…
11
За то время, что я просидела у Гавриила, мороз сменился праздничным синим снегом, неслышно падающим с небес. Мне казалось, будто не прошло и двух часов с того момента, как белая лестница водоворотом вынесла нас на последний этаж, и потому я даже испугалась, увидев закрытое метро. Уличные часы показывали начало шестого. Как вор, я побежала по гулким улицам, страшась не живых людей, которые в России об эту пору еще или уже спят, а происходящей чертовщины со временем. Я знала, что Владислав не очень волнуется из-за моего отсутствия, ибо верит в мою неуязвимость, к тому же пустая постель дает ему возможность поработать до утра в свое удовольствие. На исходе зимней ночи город, как обычно, полностью открывал свою имперскую ипостась: роскошный, порочный и надменный, он подавлял равнодушием и нечеловеческой красотой. Это был город Николая, наводивший оцепенение, замораживавший сердца. И мне, бывшей плотью от плоти этого пространства, какой-то частью души неизбежно и неизменно отождествлявшей себя с ним, это ночное ощущение не понравилось. Я любила святочное безумство женского столетия, с его жаркой здоровой силой в осыпающихся кружевах и ломающихся эспадронах; любила лунный перелом века с ветром над замком и поющими флейтами войны; любила город, оглушенный взрывами на Екатерининском канале, город, танцующий в метелях между «Собакой» и «Приютом», любила даже петровскую тяжкую смурь, даже серебряный блокадный апокалипсис — но лживую зеркальную выправку тридцати ледяных лет не любила. И боялась.
Дома было темно и почему-то очень холодно. Амур, свернувшись, лежал не у себя на месте, а в кухне под столом и, услышав меня, лишь застенчиво постучал хвостом. Не раздеваясь, я прошла в спальню, где почему-то было приоткрыто окно, а на подоконнике наметена горстка снега. Владислав сидел в кресле, прикрывшись пледом. Экран компьютера не горел, стопки книг и бумаг лежали нетронутыми. Присев перед креслом на корточки, я заглянула мужу в лицо и увидела в нем то самое выражение злобы и горечи, которое предстало мне несколько часов назад в пряном запахе таинственного чая.
— Что произошло? — Голос у меня был чужой и пустой. Владислав с силой потер вьющиеся виски, и с мистическим ужасом я увидела на его длинных пальцах темно-голубые синяки. И, следуя увиденному, почти механически спросила: — Почему Амур не на месте?
— Он мне мешал, — спокойно ответил Владислав. — Я закрыл его на кухне.
Снега на подоконнике становилось все больше. Не вставая, я напряженно вглядывалась в сумрак комнаты, словно могла увидеть в нем те ломкие тени или тот слепящий свет. Проследив за моим взглядом, Владислав неслышно засмеялся и, поднимая меня, проговорил:
— Еще ночь, правда? «Бесконечную ночь нам спать придется…» [9]
Я невольно отдернула руки и от резкого движения упала на ковер между креслом и ночным столиком. Там, под резными гнутыми ножками, лежала брошенная бесстыдно раскрытая книга, и страницы ее были грубо заломлены, обнажая темно-малиновый форзац. Уже все зная, я все-таки медленно подняла книгу и, разгладив страницы, молча положила ее на укрытые черным пледом колени. Сверкнула крошечная золотая роза, и как тени проступили черные буквы «Достоевский. Материалы и исследования. Выпуск десятый». Холодным расчетливым ударом не милосердной, но подлой шпаги полоснул меня голос Владислава на истертых ступенях: «Десятый выпуск Достоевского семинара, разумеется, краше», и кровавые полные губы усмехнулись в ответ…
Не закрыв окна, я взяла Амура и снова вышла из дома.
Улицы за полчаса совершенно переменились. Империя заснула, уступив место не зависящей ни от места, ни от века истомленной утренней усталости, в которой всем без различий светит голубым светом крепостной, одинокий и замерзший, ангел. Я знала, что по его легкой дорожке можно пройти прямо наверх, и это будет не трудно и не больно, но поводок в руке вздрагивал и натягивался живым. И даже несмотря на это, мне казалось, что внутри я стала плоской, двухмерной, пропали все проклятые вопросы, остановилась работа души, а сама я с каким-то презрительным спокойствием смотрю на себя со стороны, как всегда смотрела на самых страшных для меня людей — бездуховных. Крупно шагая по узким аллеям парка, я еще автоматически отмечала князьандреевское небо наверху, зелено-лиловую декадентскую Божью Матерь, незлобивым укором глядящую на святыню неверных напротив, но все это было уже только понятиями, за которыми не стояло ничего. Единственным, что, как пуповина, привязывало меня к жизни, оставалась пульсировавшая в руке полоска истертой кожи. И может быть, именно это сравнение с пуповиной вдруг навело меня на мысль о матери-земле — вечной теме наших бесед с Владиславом и стольких статей малиновой книги, оставшейся у него на коленях. Неужели так быстро наступило время, когда уже ни молящийся за меня на небесах Никлас, ни полный живой жизни Гавриил не могут спасти меня, и осталась только она одна?! Но губы уже сами с обреченной радостью послушно зашептали: «…и великая в том для человека заключается радость, и всякая тоска земная и всякая слеза земная…»
12
Моя мать сыра земля была далеко.
Она лежала в нескольких километрах от когда-то могучего, спорившего с Москвой, а после заштатного уездного городка Галича, где после взятия Казани царь раздавал вотчины покорившимся ханам. Место славилось непроходимыми лесами, гончими собаками да отсутствием ядовитых гадов, изгнанных оттуда еще преподобным Сергием, очертившим святой круг по окраинам на десять верст. И там, в быстро забытой столицей глухомани яркая кровь славянского долга слилась с темной татарской кровью страсти. Там-то и существовала для меня таинственная мать-земля, оставляемая на последний, быть может, на смертный случай.
Вагон оказался пустым, но меня это уже не удивило, поскольку с того самого мгновения, как я увидела на полу раскрытую книгу, мир удивленного восприятия пропал для меня. Он сменился не отчаянием, не тоской, даже не злобой — он сменился самым страшным — банальностью. Это было хуже чем смерть. И я, в тщетных попытках спастись, инстинктом раненого зверя, знающего, что пока есть боль, есть и жизнь, растравляла в себе ее, еще не созревшую, не прожитую. Я представляла себе, как в тревожные октябрьские вечера, когда золото окончательно переходит в ржавчину, увидев однажды на далеком перекрестке похожий наклон плеч, брошусь туда, чтобы потом заплатить за секунды надежды новой пустотой. И уже являлись мне и те улицы в неверном свете раскачивающихся фонарей, и та почти видимая воронка, в которой тебя крутит, пока ты бежишь за исчезающим в темноте призраком.
Но вагон был действительно пуст, что подтвердила румяная проводница, успокоенная выдержкой и документами Амура.
— Так чай не будете, что ли, пить? Тогда я пойду к соседке, в пятый вагон, а вы уж тут как-нибудь сами…
Я благодарно кивнула.
За стеклами вспыхивали и смазывались скоростью желтые и синие огни, пес деликатно сопел на нижней полке, а я думала о том, что еду, конечно, зря, что вся эта полусказочная белая страна, конечно, мной выдумана и что, кроме провинциальной нищеты и скуки, я не найду там ничего. А еще и о том, что внезапно я оказалась свободна от обоих моих тюремщиков, — предательство Владислава высвобождало и долг и страсть. Последнюю оно делало полностью независимой. И что теперь было делать с этой свободой — неизвестно. Мысль же о том, что, возможно, он сделал это намеренно, просто избрав такой, а не иной путь спасения, в голову мне не приходила.