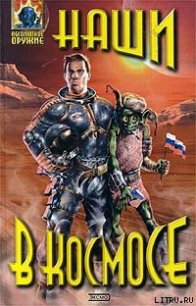Гербарий (СИ) - Колесник Юна (книги полностью txt) 📗
Когда она открывает глаза, над ней два бледных лица — мамино и дежурной медсестры.
— Мила, Милка, как неудачно ты упала, голову разбила, — мамин предостерегающий шёпот страшнее боли.
— Упала я, упала… — шепчет она, соглашаясь, безоговорочно принимая мамину версию, и закрывает глаза.
Кто-то из девочек услышал шум в соседней спальне, примчался в учительскую, и кстати задержавшийся физрук отбил Милку у толпы парней. Кровь остановили быстро. Скорую вызывать не стали, полицию — тем более. Изнасилования, по сути, не случилось, были только руки, грязные, грубые пальцы. Но и такое происшествие в стенах интерната — подсудное дело, поэтому всю информацию аккуратно замяли, а мама просто перестала возить Милку с собой на работу.
Милка идёт к машинам. Ничего не изменилось — она не может больше там, в этом здании, находиться. Останавливается у неприметной «Инфинити» Вадима, смотрит на своё отражение в стёклах автомобиля. Никита догоняет её:
— Сколько мать твоя тут проработала?
— Почти двадцать, с перерывом в год.
— Двадцать лет… Я бы и полгода не продержался. А я ещё удивлялся — почему она у тебя такая.
Милка криво усмехается, протягивает ладонь:
— Дай сигарету.
Он подносит ей зажжённую спичку, не замечая мелкой дрожи губ и пальцев. Прикуривает и сам, молчит. Потом говорит:
— Я вот думаю, Мышь… как сказать-то? Мы с тобой счастливые люди. Я знаю, что такое интернат, понимаешь? Но у нас был дом, пусть и далеко. Родители были, матери измученные, отцы-придурки. А у них…
Милка швыряет окурок в траву, шагает к нему, словно с обрыва шагает, вцепляется в куртку:
— У них? Да что ты знаешь о них, о всех? О сраной генетике? О фальшивом милосердии, о лицемерии? — она трясёт его, пытается наклонить к себе, чтобы он лучше слышал, чтоб её слова разбили прочную корку серебристого льда в его глазах, мешающую видеть то, что видит она.
Никита отвечает ей коротко:
— Убери руки.
Милка пожалеет и об этой поездке, и о своих словах. Она так и будет ходить за Никитой тенью, сидеть с ним рядом на парах, оставаться ночевать. Дедушка, заметив, что внучка не в себе, скажет: «Успокойся. Подожди, не гони лошадей», на что она только огрызнется.
Никита не сможет забыть её выходку. Скриптонит у него в наушниках, за последние полгода вытеснивший Чижа почти полностью, станет напоминанием: «Машины с едой всем голодным детям… Но как сделать это без бумажек?» Никита станет думать, анализировать.
А ещё он решит, что мышь — непростой зверь, скрывающий ядовитые зубы, которые могут укусить когда угодно, исподтишка, и занести отраву, заразу, инфекцию. Его начнёт раздражать Милкина привязанность.
II
— Высоко-высоко в горах, там, где бурная река потоком падает вниз, ледяными струями прожигая русло своё, на выступ скалы упало крохотное зернышко.
Собрав все силы, ухватилось оно за трещину в древних камнях и стало жить, не зная, не ведая солнечных лучей, забившись в вечную тень, чтобы не унесло его гуляющими ветрами, чтобы не склевали редкие прожорливые птицы…
В день середины лета по тропинке, что упрямо ползёт над туманными брызгами водопада, карабкался одинокий странник с котомкой за плечами. Долго он шёл, поднимаясь от самого моря, исколоты были ладони его о ежевичные кусты, и злые валуны перекатывались под ногами…
Это старейшины, седые, как вершины Кавказа, указали ему дорогу к Лунному камню, что с начала веков ждёт тех, кто осилит тернистый путь, чтобы исцелить их раны, телесные и душевные.
Да, был полдень, когда он достиг своей цели. Измождённый, дотронулся странник до горячей, взмывающей к небу глыбы, и прошептал:
— Я не знаю, чего просить у тебя, о могучий камень… у вас, о светлая Амра и тёмный Алихан, что венчались здесь в давние времена. Я простой Садовник, виноградарь. Плетёная хижина, виноград и хурма — всё, что есть у меня… — вздохнул он, вспоминая. — А чего хочу? Порою чудится: достатка хочу и признания, чтобы вина мои пили на всём побережье, чтобы каждый год полными были бочонки… А порой — умираю от тоски, ведь нет со мной рядом той, кто станет вечно и преданно любить, понимать и заботится…
Провёл он ладонью по крутому боку камня, и вдруг с тихим треском откололся от того кусочек, быстро-быстро покатился вниз, к обрыву, и упал… Бросился туда Садовник, подполз к краю пропасти и увидел узкий выступ. Потянулся он к нему, зажмурившись от высоты, от слепящего солнца, ухватил камушек рукой… А когда выпрямился и разжал кулак — оказался в нём и не камень вовсе, а бледный росток с тонкой нитью корешка.
Понял Садовник, что это и есть ответ на его просьбу, поклонился высшим силам, оставив у камня бурдюк молодого вина — такого же, один в один, как вот это на нашем столе — и отправился в обратный путь. В тряпице за пазухой нёс он своё сокровище.
Долгой и трудной была дорога домой. Грохотали грозы, скалили зубы хищные звери…
Но дошёл он до своей долины, донёс росток и посадил его в рыхлую землю в тени хижины. Полил водой из своей кружки, а сам взял нож и отправился в сад, который погрустнел и состарился за время странствий хозяина. В раскидистой хурме свили гнёзда полчища ос, а виноградные лозы, что росли на свободе, взбираясь по стволам деревьев, погрызли гордые олени.
Росток выпрямился, быстро потянулся вверх, выпуская один бархатный лист за другим, ветвясь и радуя нежной зеленью.
Но однажды, когда Садовник поливал деревце из кувшина, один из стеблей обвил его руку, а листья ладонями прикоснулись к его щеке. И услышал он тихий голос, сотканный из шелеста гибискусов, звона диких пчёл и журчания ручьёв:
— О мой спаситель! Жила я без тебя в вечной тьме и холоде. Видела лишь туман, поднимающийся из ущелья, слышала лишь свист крыльев пролетающих мимо птиц. Ты спас меня. В дороге ты поил меня водой, сам страдая от жажды, ты отбивался от шакалов, охраняя меня. Теперь я буду расти и набираться сил. Ты же работай как прежде в своём саду, но как только захочешь глоток прохладной воды — приходи ко мне.
Удивился Садовник и обрадовался. Так тепло стало на душе у него! И прекрасная юная Киви — а это была она! — каждый день поила его росой, собранной на рассвете её круглыми листьями, и слушала, раскачиваясь, его истории.
Но однажды, когда он наклонился испить воды, упругие стебли, что стали ещё длиннее и сильнее, стянули кольцами его запястья, опутали щиколотки:
— О мой спаситель! Благодаря тебе я увидела солнце, что светит и греет. Благодаря тебе я могу ловить капли дождя, а не страдать, добывая влагу из-под земли. Я хочу радовать тебя тенью и свежестью в самый жаркий полдень. Прошу, смастери мне опору, а себе — удобную скамью под моей густой кроной, и тогда мы чаще будем вместе.
Согласился Садовник. Собрал из крепких ольховых веток перголу, чтобы любимой было легче, и сплёл скамью из гибкого рододендрона. Молодая Киви с радостью приняла подарок.
Но в следующий раз, когда Садовник, уставший после сбора урожая, прилёг отдохнуть под чудесным навесом, раздался голос:
— О мой спаситель! Ты охраняешь меня от полчищ саранчи. Благодаря тебе я могу любоваться на горы и море… Видишь эти белые цветы в моих волосах? Позови диких пчёл, они принесут на своих брюшках пыльцу с горьким ароматом. И тогда скоро, совсем скоро я подарю тебе тысячу ягод… Освежающих, нежных…
Она говорила, а покрывало из сплошных побегов спускалось всё ниже и ниже.
— И тогда я больше не расстанусь с тобой. Пусть ветры воют над морем, пусть зачахнет твой сад, но я всегда буду рядом… — слова её гудели ураганом.
— Отпусти меня, — взмолился Садовник. — Ты прекрасна, ты моя отрада в часы зноя, ты утоляешь жажду и понимаешь мои желания. Отпусти. Если буду скован, как смогу быть защитой тебе? Как смогу позвать пчёл?
Чуть ослабела хватка стальных ветвей. И он, вырвавшись, бросился бежать. Но сильная и смелая Киви преградила ему путь, сбила с ног, засыпала глаза сотнями облетающих лепестков… Ставшие жёсткими, шершавыми, как шерсть старого пса, листья хлестали его по лицу.