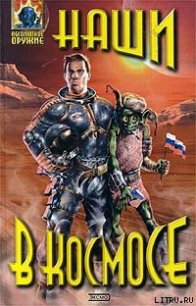Гербарий (СИ) - Колесник Юна (книги полностью txt) 📗
Артём окончательно помирится с отцом. Без лишних слов. Признается сам себе, что устал от съёмных квартир, от условий в общаге, что скучал по матери и брату, и категорично решит, что на время учёбы они с Олесей будут жить с родителями, отчего та придёт в ужас, будет плакать, кричать, что кругом опять враньё и что она не сможет жить среди чужих людей.
Никак не сможет она поверить, что всё случившееся — реальность, хотя Артём и попытается объяснить ей, что в быту шиковать они не привыкли, что заказы на статьи ему брать всё равно придется, что попадёт она вовсе не в сказку и со свадьбой поторопиться тоже не получится. В итоге Олеся выпросит отсрочку с переездом — якобы для того, чтобы привыкнуть ко всему новому, так стремительно случившемуся, чтобы разложить все по полочкам.
Лист седьмой. Чужие. Дикий виноград (лат. Parthenocissus quiquefolia)
I
В сентябре Артём попросил Милку о содействии, но с личной его жизнью это никак не было связано.
В городе бушевала предвыборная кампания, у Вадима появился «клиент», один из депутатов, который срочно требовал репортаж о социально-значимом мероприятии. Артём знал, что Милкина мама всю жизнь проработала в интернате для детей-сирот, он предложил отцу съездить туда с депутатом, мол, и детям хорошо, и небожителю полезно.
Милка скривит губы, пожмёт плечами, но отказать не сможет, договорится на конкретный день и время.
В тот день они поедут небольшим кортежем — микроавтобус телевизионщиков, Вадим с молодёжью — отдельно, плюс депутатский «Лендкрузер». Мама Милкина не сможет проводить «мецената» сама, уедет из города двумя днями раньше, долгожданная путёвка в санаторий не оставит ей вариантов. Милка сначала тоже отказывалась ехать, но Вадим будет настойчив, и он же уговорит Никиту сопровождать их под предлогом, что группе нужна помощь с техникой. Артёма с Олесей с ними не будет, они в тот день снова в Осинках.
Первым у чугунных ворот паркуется депутат, из его машины выпрыгивают красавцы-помощники, открывают багажник «крузака». Милка из-под ладони смотрит на облицованные серыми плитками стены, на высокое крыльцо, на скрытые за тополями окна. Прислушивается к себе. Потом спохватывается, подходит к депутату, дотрагивается до его рукава:
— Извините, но это важно. Каждому из них — лично в руки. Иначе растащат, концов не найдёте.
Слуга народа высокомерно кивает:
— Я всё посчитал, должно хватить и ещё остаться.
Милка думает: «Остаться… Кому? Сыну директора?»
Накачанные помощники, играя на публику, закидывают себе на плечи по паре здоровых, но лёгких пакетов. Процессия шагает, телевидение снимает, девочка-журналист комментирует происходящее. Охрана на входе («Да-да, ждём, вам в спальный корпус, там встретят»), просторный холл, знакомая загогулина перехода между корпусами, раковины в ряд перед столовой, лестница. Запах несвежего, но выглаженного белья, рыбных котлет, хлорки, йода.
Их действительно встречают — лебезящие жесты, дежурные слова.
Депутат гордо вышагивает по коридорам, навстречу услужливо открываются двери, за которыми — руки, протянутые руки. Потные от нетерпения, от желания урвать, сцапать, сгрести. От этих мокрых рук скрипят коробки с куклами, с лего, с машинками… гремящие, звенящие коробки. Руки хватают, прижимают, тискают — медведей, лис, слонов, розовых зайцев.
Милку бросает в жар. Она не видит выражения лиц Вадима, Никиты, парня-осветителя, остальных. Она видит только руки. Худые, юркие, опасные, как змеи. Готовые задушить, выжать, превратить в тряпку.
«Всё это уже было», — думает она. Да, было:
— Мама! Мама пришла! Мама, мамочка!
И они бегут к маме, несутся по дугообразному переходу, виснут на плечах, сцепляют неразъёмными замками у неё на шее эти свои руки.
А Милке семь. Она стоит в сторонке и ждёт. Для них — «мама». Для неё — Нина Васильевна. Такое правило. Милке можно обедать вместе с ними в столовке, сидеть в классе, когда у них самоподготовка — свои уроки делать или рисовать, можно пялиться в телек в игровой, много чего можно. Но называть мамой — нельзя. Потому что у Милки и так — и «домашняя» одежда, и телефон, и цветные гелевые ручки. После отбоя Милка уходит с ней, но только когда тёмные окна интерната остаются позади, мама возьмёт дочь за руку.
Съемочную группу и депутата с его молодцами тянут в учительскую. Там целый банкет — чай, кофе, конфеты, бутерброды, играет детская песенка. Милка идёт сзади, бормочет:
— А красная дорожка где? А хлеб-соль на рушнике? Девочки в кокошниках?
Никита шипит на неё: «Помолчи уже, а?»
Директор машет бумагой с золочёной рамкой, как флагом:
– Уважаемый… Нет! Дорогой вы наш! От лица администрации нашего учебно-воспитательного заведения…
Милка думает: «И это уже было».
— …милая вы наша! С праздником! Вы не просто воспитываете, вы помогаете обществу!
И мама в кудрях и в зелёном переливчатом костюме. Кафешка, цветы, тосты. Музыка. Милке десять, маме сорок. И за столом Милка сидит рядом с толстым завхозом, косящимся в сторону запотевшей бутылки с белым медведем на этикетке. Но только он тянет к медведю мясистую руку, как распахиваются двери и втискивается в них морозно-румяный высокий дядька.
Ведущему что-то шепчут на ухо, он кричит в микрофон:
— Поздравить именинницу приехали её первые выпускники!
Дядька скидывает дублёнку:
— Нина Васильевна, я же доченьку вашим именем назвал! — он выталкивает из-за спины кривоногий шарик в шубе. — Нинуля, дари тёте букет, дари! Эта тётя папку твоего на ноги поставила, уму-разуму научила!
И люди хлопают, и вскакивают, и обступают его, а он, вырываясь из толпы, сгребает ручищами тонкую мамину фигурку.
Да, кто-то из них прописался на зоне, кого-то уже и нет вовсе, а кто-то — вот, поди ж ты, выбился в люди.
Депутат мотает головой, отстраняется от директорских объятий:
— Благодарность — это замечательно. Но у меня вопрос следующего характера: может, канцтовары вам необходимы? Или книги? Или лучше всё-таки крупную сумму на счет?
Директор многозначительно смотрит на стоящих вокруг — гостей, педагогов:
— Думаю, это лучше обсудить конфиденциально.
Вадим дёргает бровью, цепко перехватывает их взгляды, потом даёт отмашку своим, машет и Милке с Никитой:
— Погуляйте пока, а мы детишек и интерьеры поснимаем.
Милка смеётся, на неё шикают.
Всё это — было, было.
Было:
— Дочь, ты же видишь — мы заняты? Иди к девочкам, иди. Они там в шашки играют.
Играют… А вы? Вы планы пишете. Как развлечь, куда сводить, цели, задачи. Мама строчит это всё от руки, а Милка набирает на компьютере здесь же, в учительской. Милке тринадцать, она ненавидит вечные эти планы, разлинованные тетрадки, бесконечные таблицы. Ненавидит концерты с песней Мамонтенка, экскурсии, на которые мама тоже таскает её с собой — присмотреть, помочь.
Она послушно выходит в гулкий коридор, там электронные часы, их зелёные глазки-циферки моргают: «Час до отбоя, терпи». Идёт в спальню к девчонкам. Кто-то тенью ныряет в дверь: «Шухер!»
Шашки, говорите? Меж двух кроватей натянуто коричневое покрывало, их там под ним несколько. Пыхтят. В углу у раскрытого окна — Клешня, на корточках, носом в пакете. Рядом с ним — Лёшка Спирин, лысый, с заячьей губой. Идет к Милке, кидает на ходу:
— Какой же это шухер? Это дочка воспиталкина. Чё зенки вылупила? Звал тебя кто?
Милка хочет уйти. Она просто перепутала соседние двери и теперь чувствует, как от опасности густеет воздух. Но сбоку к ней подходит ещё кто-то, закрывая проход.
— Ну, чё пялишься? — Спирин впивается в неё взглядом. — Завидно? А давай-ка с нами. Иль слабо? Клешня, ну-ка, подсоби, покажем ей наши мультики.
Рвануть бы сразу, но она не успевает. Хочет отбиться, надо отбиться! Но они сильнее, их уже не двое, больше. Держат за руки, за ноги, пытаются нацепить на голову пакет с «Моментом». Она уже готова орать, но от запаха спазмом душит горло. Впивается в кого-то зубами. Падает вниз, головой впечатываясь в пол. Её поднимают, кто-то шарит по ногам, кто-то щупает тело под свитером, чья-то железная рука стягивает, не расстёгивая, джинсы. Зачем? За что? Больно-то как…