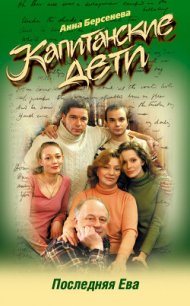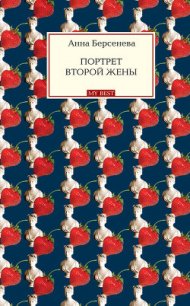Нью-Йорк – Москва – Любовь - Берсенева Анна (прочитать книгу txt) 📗
– Разве они поверят? – удивилась Алиса.
– Если скажешь с уверенностью, поверят. И потом, ведь в этом нет вранья. Ружье у тебя в самом деле есть – если надо будет, мы за ним пошлем, – и стреляешь ты отлично.
Ружье, принадлежавшее еще покойному деду, бабушка вручила внучке, когда приехала на ранчо из Нью-Йорка, чтобы поздравить ее с днем рождения; Алисе тогда исполнилось шесть лет. Мама, как обычно, испугалась, но возражать все же не стала. На каждом техасском ранчо было оружие, и стрелять умели все, в том числе дети. Правда, ружья им обычно дарили позже, лет все-таки с десяти…
– А она у тебя вообще ранняя, – в ответ на робкие мамины возражения заявила бабушка. – Во всех своих талантах. Я уверена, что стрелять она тоже выучится быстро.
Так оно, конечно, и получилось. За последний год, прожитый на ранчо перед отъездом к бабушке в Нью-Йорк, Алиса научилась попадать в подброшенную десятицентовую монетку, не говоря уже о куропатках, которые шуршали в каждом кусте, – по ним она просто не знала промаха.
Бабушка оказалась права: когда Алиса пообещала принести в класс ружье, ей поверили все и сразу. И дразнить ее тоже перестали сразу. А когда она, захлебываясь от восторга, рассказала об этом бабушке, та заметила:
– Вот видишь. Люди обязательно поверят в то, в чем ты сама уверена.
– Но все-таки жалко… – задумчиво проговорила Алиса.
– Что жалко?
– Получается, надо с самого начала относиться к людям, как будто… Как будто ты с самого начала знаешь, что они злые? Но ведь так же плохо жить!
– Америка слишком благополучна, – улыбнулась бабушка. – Вы просто не знаете, каким может выказать себя человек в неблагоприятных обстоятельствах. Ну хорошо, не надо с самого начала думать, что люди злые, – разрешила она. – Думай, что они добрые и хорошие, так в самом деле спокойнее живется. Но знай, что среди людей немало таких, которые садятся тебе на голову сразу же, как только видят, что ты относишься к ним по-человечески. Ты должна научиться отличать таких людей и давать им отпор. Они понимают только силу, значит, для них у тебя должна быть сила.
– Но как же этому научиться? – вздохнула Алиса. – Как их отличать? Они же выглядят точно так, как хорошие люди!
– Вот и начинай учиться, – пожала плечами бабушка. – Нью-Йорк – самое подходящее для этого место. А завтра к тебе придет преподаватель речи. Техасский выговор трогает сердце своей неподдельностью, – улыбнулась она. – Но для бродвейской сцены не годится.
И Алиса начала учиться тому, что годится для бродвейской сцены, и научилась этому не хуже, чем стрелять и скакать на лошади. Только бабушка так и не узнала, что ее внучку пригласили в Москву в качестве звезды Бродвея…
Или все-таки там, где была теперь Эстер, это было как-нибудь известно?
Как бы там ни было, но привыкнуть к тому, что здесь, в Москве, она прима и звезда, Алиса все же не могла. И эта непривычка происходила вовсе не от неуверенности в себе. Она правильно оценивала свои способности и иногда, втайне, даже позволяла себе называть их талантом. И сравнить их со способностями других актрис она уж как-нибудь была в состоянии… Но именно поэтому понимала: для того чтобы тебя пригласили в столицу огромной страны, и на целый год поселили в дорогом отеле, и возили в театр на специально выделенной машине, и платили такие деньги, какие платят ей в Москве, – для всего этого надо быть по меньшей мере Гертрудой Лоуренс, а она актрисой такого уровня не является.
Конечно, во всей московской жизни чувствовалось нечто такое, что Алиса – может быть, неточно – называла преувеличением. Цены здесь были непомерно высоки, и казалось, что они не складываются согласно каким-нибудь непреложным экономическим законам, а назначаются просто так – как говорила Маринка, от балды. И богатство множества людей происходило здесь неизвестно откуда, тоже без всякой закономерности. Но почему в этом хаотическом назначении главных и неглавных, в этом сплошном преувеличении ей вдруг было отведено чересчур значительное место, Алиса не понимала.
Жить «от балды» было странно. Алисе все время казалось, что она сидит на краешке стула, с которого может упасть в любую минуту.
Но когда это все-таки случилось, она совершенно растерялась.
– Без комментариев, – мрачно произнес Леша Меркурьев. И усмехнулся: – Так и велено вам всем от начальства передать.
Вольность, которую позволил себе обычно щепетильный Леша по отношению к распоряжениям начальства, была извинительна: ведь он больше не был пресс-секретарем проекта под названием «Бродвейский мюзикл «Главная улица» в Москве». И проекта с таким названием тоже больше не было. О чем бывший пресс-секретарь бывшего проекта и сообщил американской части коллектива.
– Зрители в Москве еще недостаточно продвинуты, чтобы платить адекватную цену за билеты на бродвейский мюзикл, – сказал он. – Ну, подробности вам потом изложат. Завтра на собрании. А я так, почву только готовлю. Чтоб вы в обморок не попадали.
Леша хорошо говорил по-английски, поэтому в его речи слышны были грубовато-успокаивающие интонации, которые звучали бы и на родном языке. Труппа мрачно молчала.
– Ну и черт с ним, с этим проектом! – вдруг сердито воскликнул Джон Флаэрти. – И отлично! Москва так утомила, что я и сам уже готов был разорвать контракт. Меня останавливало только то, что придется платить неустойку. А теперь, выходит, ее заплатят мне!
Он нервно расхохотался. И сразу словно плотину прорвало. Все заговорили разом – с возмущением, с облегчением, с таким же, как у Джонни, нервно-неопределенным смехом… Алиса молчала. Она была не то что растерянна из-за самого по себе закрытия проекта. Конечно, нет, зря Леша думал, что кто-то упадет от этого в обморок. В Америке что-то подобное происходило постоянно: неожиданно открывались какие-то очевидно провальные мюзиклы, при этом закрывались те, что казались вполне успешными, потом вдруг они возобновлялись, но не в Нью-Йорке, а почему-то в Филадельфии, потом возвращались на Бродвей, чтобы тут же покинуть его снова… Актерская жизнь и стабильность были несовместимы, Алиса знала это всегда и никогда на это не сетовала. В конце концов, если бы она хотела стабильности, то выбрала бы другую профессию. Или другую страну. Или просто вышла бы замуж за Майкла, с которым безбедно, хотя и бесстрастно прожила целый год перед отъездом в Москву.
Но она выбрала для себя ту жизнь, которую выбрала, и падать в обморок теперь не собиралась.
Правда, и что делать дальше, тоже не представляла.
– Не расстраивайся, чего уж теперь, – сказала Маринка, когда американские актеры потянулись из зала, где Леша сообщил им ошеломляющее известие, в фойе. – Зато в Нью-Йорк вернешься. Ты, наверно, Москвой этой нашей сыта по горло. Опять на Бродвее будешь играть.
Маринка хоть и была артисткой «на выход», но откуда-то уже знала то, что даже ведущие актеры узнали всего полчаса назад.
– А ты? – машинально спросила Алиса.
– А я не на Бродвее, – усмехнулась Маринка. – Но тоже не пропаду. У меня способность к адаптации хорошая. Ну, в школе пока поработаю, поучу кошелок. Потом в другой проект наймусь. «Кушать подано» выпевать куда-нибудь да возьмут. Жалко, платить, как здесь, вряд ли где будут.
– У тебя американская способность не унывать… – заметила Алиса.
– Но – что?
Маринка сразу уловила незавершенность ее интонаций.
– Но… Знаешь, по-моему, эта способность отнимает чувства. Это непонятно? Чтобы не печалиться, когда что-то теряешь, нужно просто не иметь сильных чувств ни к чему.
– Жизни вы не знаете. – Маринка усмехнулась, и ее серые глаза блеснули чем-то непонятным; до сих пор Алиса не видела такого короткого и сильного блеска в ее простых круглых глазах. – Когда каждый день только и думаешь, как более-менее прилично пожить, а то и просто с голоду не сдохнуть, тут, знаешь ли, всякие чувства быстро улетучиваются. И сильные, и слабые. Я когда-то тоже такая была. – Маринка улыбнулась; странный блеск исчез из ее глаз. – Вроде тебя. Только тебе двадцать пять уже, а мне тринадцать было. Я тогда в десятиклассника влюбилась. В первый раз и, как положено, навек, до гроба. И так я от этого страдала, Алиска, не могу тебе передать! – Она засмеялась. – В груди все болит, просто физически ноет, вот до чего мучилась. Сижу, рыдаю, маме говорю: «Мама, в груди больно!» Она вокруг меня с градусником, с компрессом, а я и объяснить не могу, что это со мной.