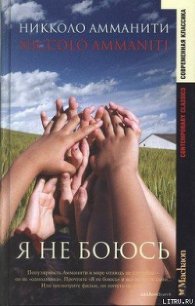Жила-была девочка, и звали ее Алёшка (СИ) - Танич Таня (читаемые книги читать .txt) 📗
Именно так все и должно быть — с этой неотступной мыслью я засыпаю и посыпаюсь уже несколько дней. Я знаю, что поступаю жестоко, но правильно, спасая нас обоих. Его — от боли, которую причиняю ему каждый день, находясь рядом, себя — от разъедающего изнутри отчаяния за то, что делаю с ним.
Уверенность в собственном выборе придаёт мне сил не впасть в суетливую спешку. К окончательному шагу я готовлюсь обстоятельно, не испытывая ни страха, ни сомнений, ни грусти. Мне не о чем сокрушаться и не за что себя жалеть. Ведь, оборачиваясь назад и вспоминая все с самого начала, я понимаю — у меня была очень счастливая жизнь.
Часть 1
Глава 1. Я
Я была счастливицей с детства — говорили, что даже родилась в рубашке. Проверить, правда это или нет, я не могла, поэтому просто поверила тому, что акушерка, принявшая меня, едва живую, после трудных родов, громко заявила: "Ух, какая девка! Везучей будет!" С этой легендой я поступила в дом малютки, с ней же и вышла оттуда. И несла ее с собой постоянно, как паспорт или свидетельство, или мою первую настоящую сказку.
В сказке я оказалась едва ли не с первого дня. Уже то, что меня оставили в больнице, написав отказ, а не выбросили из окна движущегося поезда или спрятали где-нибудь под скамейкой в заброшенном парке, было хорошим знаком и удачным началом волшебного жизненного пути.
Потом мне повезло во второй раз, когда при переводе из роддома вечно рассеянные регистраторши что-то напутали в документах, и в дом малютки я поступила под мужским именем Алексей. Пока чиновники впопыхах пытались исправить путаницу, в новом доме меня величали нейтрально — Лёшкой. В результате возни с документами, затянувшейся на пару лет, прозвище прижилось, я с радостью откликалась на него, не понимая, зачем нужно что-то менять, и почему строгие тети в костюмах вдруг начали спрашивать:
— Деточка, а какое имя ты бы себе хотела?
Я стояла на своем, утверждая, что зовут меня Лёшкой, и никак иначе. Конфуз удалось замять компромиссным переигрыванием мужского имени на женский лад. В итоге в исправленной метрике вывели звучное и красивое "Алексия Подбельская", и все успокоились. А я — я была счастлива. Мне ужасно нравилось так называться.
— Надо же, такая маленькая и такая упрямая, — говорили наши воспитатели. — Имя какое специально для нее придумали! Не каждому ребенку так везет!
Так моя везучесть стала чем-то само собой разумеющимся, и я сама свято верила в нее. Тем более, мне повезло в третий раз, на этот раз с детским домом, в который я попала после достижения четырехлетнего возраста. Это был небольшой, старый, "малокомплектный" приют. В отличие от огромных и солидных детских домов-интернатов на несколько сотен воспитанников, нас, сирот от четырех до пятнадцати лет, насчитывалось здесь до сорока человек. В приюте даже не было классных комнат для обучения, для этого просто не хватило места. Весь второй этаж занимали спальни девочек и мальчиков, а на первом размещались столовая, игровые комнаты и небольшой актовый зал с библиотекой.
Состояние моего нового жилища, конечно, оставляло желать лучшего. Некогда роскошное, хоть и небольшое здание санатория для перенесших туберкулёз граждан, отданное послевоенным беспризорникам, за сорок лет изрядно прохудилось. Оно натужно хрипело, сипело, вздыхало каждой деревянной ступенькой, каждой полуоторванной оконной рамой, каждой дверцей, едва не слетавшей с петель. В морозные и вьюжные зимние ночи мы мерзли в своих кроватях от гуляющих по этажам сквозняков. Я даже привыкла спать в шапке и варежках — это было так необычно, будто на зиму мы переселялись в страну Деда Мороза. Во время межсезонных дождей бороться с протекающей крышей приходилось путем расстановки по комнатам больших кастрюль и тазиков, и ритмичное постукивание капель о металлическую поверхность стало моей любимой колыбельной перед сном.
Зато в этом небольшом и уютном мирке все было просто и очень искренне. Сердобольные нянечки и воспитатели действительно нас любили, воспринимая каждую "сиротинушку" почти как родного ребенка и балуя по мере возможностей. Они старательно прикармливали воспитанников сверхнормированным пайком, который удавалось раздобыть на продуктовых базах всеми правдами и неправдами. В то время как на огромной территории Страны Советов процветал подход: "Работник! Тащи домой, все, что плохо лежит!", наши взрослые действовали наоборот — несли из дому старые игрушки, потрепанную, но еще годную одежду, редкие конфеты и печенье, которые покупали за свою же, кровную и небольшую зарплату.
Ну а наш общий отец, или "батька", как привыкли называть в приюте директора Петра Степановича, уделял все свое внимание нашему окультуриванию. Тем более, что важные чиновники всячески способствовали идеологической окраске воспитания и тому, чтобы дети-сироты не чувствовали себя обделенными. К нам регулярно приезжали с выступлениями ансамбли самодеятельности различных заводов-фабрик и, едва помещаясь в актовом зале, истошно пели со сцены патриотические песни. Нас дружно и организованно водили в кукольный театр и цирк. Когда мы заходили и садились на свои места, занимая сразу несколько рядов, по залу бежал испуганный шепоток: "Детдомовские пришли". Многие из наших сердились и обижались на такое испуганно-брезгливое отношение, самые же отчаянные и хулиганистые начинали громко и непристойно комментировать происходящее на сцене, а мы, движимые чувством солидарности, громко смеялись и портили представление благополучным девочкам и мальчикам.
Но это были всего лишь показательные культурные мероприятия, настоящая жизнь протекала внутри нашего приюта. Именно там мы устраивали представления, спектакли и концерты, был бы только повод. Праздник осени, день конституции, маевка, новый год — каждое из этих событий превращалось в небольшой маскарад с костюмами, сшитыми из старых штор и покрывал, с обязательной музыкой, смешными танцами и вкусненьким на ужин. Так что я росла живым и жизнерадостным ребенком, не чувствуя особой обделенности и обиды на жизнь. И пусть у меня были залатанные колготки и растоптанная, не по размеру обувь — проблема легко решалась с помощью подложенного под большой палец клочка газеты, и расстраиваться из-за этого было как-то глупо.
И даже вопрос "Почему же меня бросили?", такой болезненный и сложный для всех наших, постепенно отошел для меня на второй план. Было время, когда в дождливые или морозные дни я вместе со всеми могла часами стоять у больших окон, прижимаясь к стеклу носом и отогревая его своим дыханием, будто бы разглядывая улицу. На самом деле каждый из нас ждал, что прямо сейчас, через секунду, или минуту, или через час, а может на следующей неделе, или спустя год на тропинке, ведущей к воротам, покажется мама, потерявшая любимого сына или дочку из-за какой-то путаницы-чепухи.
Но время шло, мамы все не показывались, и, несмотря на то, что многие все еще продолжали надеяться на чудо, я постепенно остывала к этой идее. Маленькая и неприятная догадка, нехарактерная для детского мозга, росла и крепла во мне с каждым днем, с каждым новым взглядом на пустую дорожку. И проснувшись однажды утром, я вдруг осознала — не стоит больше стоять у окна и смотреть на аллею у входа. Мама не придет. Не придет никогда, ведь однажды она уже ушла — и не потому, что меня у нее украли цыгане или злые бандиты. Просто она взяла и решила: я ей не нужна. Так бывает.
Ну и пусть я никогда не вернусь домой, с какой-то странной, недетской решимостью рассудила я. Мой дом здесь и он ничем не хуже, чем у нормальных девочек и мальчиков. Просто он больше, и семья моя — настоящая, живая семья — тоже больше, и любви у меня больше, и братьев, и сестер, и даже мам. И все они добрые и заботливые, никто никуда не исчезнет, не бросит друг друга по непонятной причине. А за невысоким забором вокруг нашего дома есть целый мир, огромный, интересный, полный сюрпризов и настоящих, взаправдашних чудес. И я не буду грустить из-за того, что от меня отказались родители. Я их и не знаю совсем, а значит они для меня никто, ничто. Как можно злиться на ничто? Его же нет, это пустое место. Вот и я не буду расстраиваться из-за того, чего у меня никогда не было.