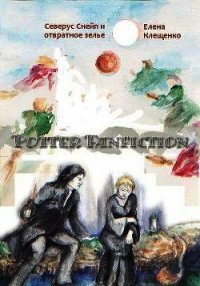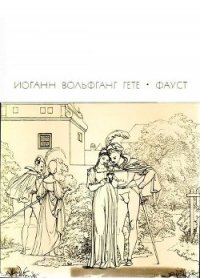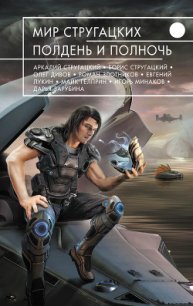Наследники Фауста (СИ) - Клещенко Елена Владимировна (книги .TXT) 📗
Я уже знал, что не выгляну. Ни за какие блага. Легче было в горах идти по краю пропасти и слушать, как постукивает падающий камушек. Меня нет, я затаился и жду. Шаги затихнут, я обзову себя дураком и разверну свои писания на столе, пока свеча не погаснет. Не может ведь в самом деле…
Шаги приближались, по лестнице вверх, и было в них нечто странное, два скрипа негромкие, один громкий. Как будто… как будто оно ставило на ступень одну лапу, затем другую, а потом переставляло обе задние. Только бы дверь, Господи, только бы не открылась…
Дверь заскрипела, и в щель просунулась нечто темное, как морда огромной собаки. Это и была собака, вне всякого сомнения. Огромный черный пес. Он еле слышно ворчал, затем сел, а затем встал. На две задние лапы, вернее, на ноги. Все-таки медведь?
А вот такое со мной случалось пару раз и во время странствия, и раньше. Страх, затопивший душу, выкипел досуха, испарился, как раствор в колбе. Мне полагалось потерять себя, орать от дикого ужаса, а я спокойно прикидывал, как бы называлась адская тварь, будь она обыкновенным животным. А в руке у меня был самый большой из хирургических ножей, уже без чехла, и разум с тем же спокойствием это одобрил и потащил за закладки в книге памяти. Ландскнехт на нашей войне, солдат на плоту — мой бывший конвоир, испанец из свиты отца Иосифа. Если ты неумел, не бей первым, думай о защите… Не руби, дурень, не топор держишь, режь, тяни на себя, так клинок лучше въедается… Легкий удар парируй, от сильного уходи… зверь еще не успел подняться на дыбы. Ага, значит, принимать лапу на нож нельзя, тем более лап две, а нож один. Это если навалится сверху, как медведь. Тогда вправо и под ребро. А если прыгнет, как пес, то пасть или глаза, а вернее всего, шея. Нож хороший, ногу у мертвеца отнимает в три взмаха.
Тварь медлила, и я не выдержал. Прежде чем лапы поднялись выше плеч, ударил по шее и рванул нож слева направо.
Потока крови не было. Было лишь немного зловонного дыма, причем зловоние не напоминало ни серу, ни крепкую водку, а скорее отхожее место. И самой черной твари не было, ни живой, ни зарубленной. И страха больше не было. И не было даже уверенности, не стал ли я жертвой дьявольского морока. Чем я лучше господина Лютера, чтобы дьявол не смел являться ко мне облеченным призрачной плотью? Ничем не лучше. Ни Лютера, ни Фауста.
Свеча уронила слезу и вспыхнула ярче, воздух в комнате нечист, на лезвии ножа темная полоса, и на левой ладони саднит порез — неловко снимал чехол, не иначе. Как будто многовато крови для столь тонкой царапины? Как будто маловато для перерезанного горла?
Все-таки бред, помрачение, сон наяву. Слишком буднична стала зловещая комната в один миг, даже в запоздалом страхе мне было отказано, даже сердце билось не чаще, чем после тяжелого сна. И нет способа узнать, кто же я теперь: великий герой, повергший злого духа, или просто умалишенный, непривычный к вину…
Открыв дверь, чтобы глотнуть свежего воздуху, я столкнулся с Альберто. Он словно и не ложился.
— Тоже не спишь? — спросил он у меня. — Назовешь меня дураком, если предложу почитать тебе Ариосто?
— Не назову, входи.
Вот оно, то, о чем я хотел позабыть за ужином: этот вечер — не встреча, а прощание. Я не вернусь в Виттенберг, это ясно. И писать друг другу будем, лишь когда случится оказия.
— Слушай, седой. Ты ведь победил его?
— Откуда ты?..
— От Марии, она мне рассказала про кольцо господина Фуста. Ты же сам велел ей довериться мне, а хоть бы даже и не велел, будь я проклят, чем я заслужил недоверие?..
Все же я дурак: он не о том, что было минуту назад, а об иной, прошлогодней истории.
— Не кипятись, Магнус. Я просто сам уже позабыл об этом. Победил, конечно, а то не сидел бы здесь, — я принялся рассказывать, но он перебил меня вопросом:
— А нож ты зачем вынул?
— Смотрел лезвие, не выщербилось ли, — язык заплелся, наказывая вруна. — Порезался вот. Сейчас уберу. Да пес с ним, слушай дальше.
Чтение Ариосто, «Неистового Роланда», не было пустым предлогом. Я помнил, как Альберто относится к своим поэтам: не менее или даже более благоговейно и трепетно, чем заядлые латинисты к Вергилию и Катуллу, почитая их книги наравне со Священным Писанием, признавая за ними свойство приносить удачу и предсказывать судьбу.
— Переводить тебе?
— Не надо. Буду так слушать.
Строка пошла за строкой, затейливой танцевальной поступью, скрещивая и переплетая рифмы; я понимал лишь отдельные корни, да еще то, что отныне уж точно все будет хорошо…
— Ты северный варвар, — было первое, что сказал Альберто наутро, едва я разлепил веки. — Ты тевтонская дубина. Ты вчера уснул, не дождавшись даже сцены безумия.
Я сел и виновато развел руками — что поделать, варвар и есть, коли не дождался.
— Рассвело?
— Полчаса до восхода. Не торопись, успеешь.
Глава 15
Сколь многое переменилось, но одно осталось неизменным: привязанность ко мне господина Майера и нелюбовь госпожи Майер. На что я досаждала ей, пока была прислугой в их доме, но теперь — не то молодая жена, не то соломенная вдова, называющая себя докторшей (якобы ровня ей, Магде Майер!), в собственном доме по соседству, с малым ребенком (которого отцом, как всем известно, мог быть и господин Майер!), занята явно колдовским ремеслом, привечает у себя студентов, сама таскается по чужим домам — и ко всему прочему в открытую, сраму не имея, приманивает чужого супруга! Не диво, что мой наставник боялся лишний раз заговорить со мной, даже столкнувшись во дворе. Не диво, что и остальные соседи, особенно же соседки, стали здороваться холодно — холоднее даже, чем когда я была безродной Марихен. Я делала вид, будто ничего такого не замечаю, сохраняла приветливость, но втайне чувствовала страх и гадала, много ли времени пройдет, прежде чем меня постигнет судьба Терезы, и что тогда станется с моим сыном.
В тот ясный теплый день я решила вынести Иоганнеса на улицу, под солнечные лучи. Моя прислуга кончила стирать и тащила во двор корзину с бельем, я же собралась выйти за ней, неся маленькую перинку для сына и рогожу, чтобы постелить на землю, как вдруг услышала перебранку. Пронзительно вопила Трина-Корова, новая служанка Майеров:
— А тебе-то какое дело? Ты, что ли, за эти веревки платила? Платила, да? Ты, ведьмина прислужка!
— Язык прикуси! — отвечала моя Анна. — Сегодня не ваш день, что ты развесилась!
— Ага, не наш? Это что, в ваших книгах записано, да? А мне хозяйка сказала сегодня постирать, а ну как дождь польет, что тогда, белью на чердаке гнить? И так уже не пройти, не продохнуть из-за тряпок вашего выблядка! Что ни день…
— Ой! Ой! Чья бы корова мычала, а ты бы, Трина, молчала! Тебе зазорно, что твоя никак не родит, старая кошелка? Все бабы, что пустые ходят, от этого бесятся, и ты у нее такая же станешь!
Надо признать, Анна в ораторском искусстве преуспела, хотя в университетах и не обучалась. Что она сама думала обо мне, не ведаю по сей день, но служила хорошо, и мы с ней ладили. Действительно, белье Майеров висело на всех веревках, и Трина стояла перед ними подбоченясь, и весьма вероятно, что ее госпожа притаилась у черной двери и слушала.
— Вот ты как, да? — сказала Трина. — А вот я скажу всем, как ты угрожаешь мне колдовством вашим ведьмовским…
Я вышла из двери и встала перед ней.
— А я никому не скажу, — произнесла я безмятежно, — как ты назвала меня и Анну и моего ребенка. Я подожду, когда ты проорешь это погромче, чтобы побольше людей слыхало. Тогда у судьи заплатишь штраф и впредь будешь думать, что говоришь.
Трина опешила. Она не знавала меня служанкой, но с нее бы сталось облаять и госпожу. Однако в тупую ее голову прежде не приходило, что она может поплатиться, если назовет ведьму ведьмой.
— Да вы чего, — пробормотала она, — я не…
— Анна, — сказала я, — позови Мартина, скажи ему вбить два больших гвоздя сюда и два сюда, а я в долгу не останусь. Веревку возьми в чулане.