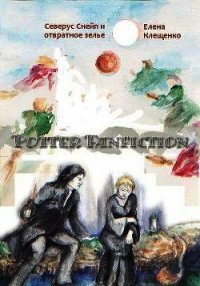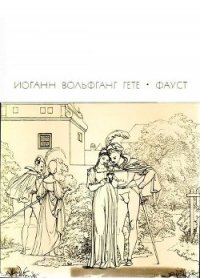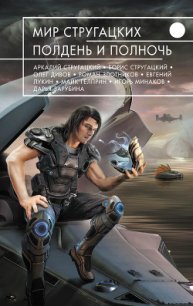Наследники Фауста (СИ) - Клещенко Елена Владимировна (книги .TXT) 📗
— Я знаю Янку, — сказала я ему и рассмеялась. — Иди сюда.
В доме ударилась о стену распахнутая дверь:
— Тадеуш!..
Последний раз она так визжала, когда уводили тетушку Терезу. Простучали башмачки по дощатому полу, Янка выбежала на крыльцо и слетела на грудь к незнакомцу.
Он наклонился к ней и закрыл глаза, сдерживая слезы, или, может быть, от той усталости, которая охватывает в миг достижения цели. Моя маленькая сестричка, будто взрослая женщина, гладила его по щеке, по волосам и что-то говорила — я понимала «любимый» и «всегда».
Они уехали через день. Янка не плакала, прощаясь со мной, но пыталась, как некогда ее мать, поцеловать мою руку. Молодой пан от невесты не отходил, не мог наглядеться. Янка не казалась испуганной или растерянной, исполнение желания ее не ошеломило: маленькая ведьмочка была не из тех девиц, которые зовут милого, пока он далеко, и бегут вон, едва милый приблизится, и хоть бы этот дар обжигал руки не хуже магического кристалла, она приняла его.
О том, что было у меня на уме, я предпочла помалкивать. Безумная страсть, словно жалящая муха в «Метаморфозах» Овидия, погнала молодого дворянина через границу, в чужие земли, на поиски любимой — сиречь той самой хорошенькой простолюдинки, с которой он целовался год назад и о которой с тех пор не помнил. Навязчивый образ синеглазой девушки, плачущей и призывающей его, начал являться ему во сне не так давно — уж не в то ли время, когда Янка взялась за зеркальце?
Понимал ли он сам, что любовь внушена ему — назовем вещи их подлинными именами — колдовством? Задумывалась ли об этом Янка? И совсем уже причудливая мысль: а отличается ли наваждение зеркальца от обычной земной любви? Какая разница, чем вдохновлен навязчивый образ: зеркальцем из дома колдуна, волнением крови, сердечной привязанностью, упрямством человеческим или иными причинами? ведь следствия между собой не разнятся и одинаково зовутся любовью. Можно было опасаться, что колдовской морок быстро развеется — зеркальце Янка оставила мне. Но и любовный морок иногда исчезает слишком быстро, даже там, где колдовство не замешано ни сном, ни духом. А кроме того, красота Янки так несомненна и очевидна, что, можно надеяться, на смену колдовской любви придет обычная, обусловленная естественными причинами, и молодой пан, храни его Господь, вовсе не заметит разницы…
Студент Карл, когда узнал об отъезде Янки, не сказал ничего.
Глава 12
Радение состоялось, и состоялось еще нечто иное, более важное и удивительное. После того как мы спустились в долину, я улучил время и, не сказавшись никому, ушел вместе с госпожой Исабель и еще двоими людьми из тамошней деревни, может быть, колдуном и его помощником. (Они принадлежали к племени, которое народ госпожи Исабель некогда завоевал, как их самих завоевали испанцы.) Взял я с собой только эти записки и попросил госпожу Исабель бросить их в огонь, если я погибну. Как показало дальнейшее, я поступил правильно, хоть и остался в живых.
Мы взобрались на помост, прикрытый наклонным навесом из ветвей, и все в свой черед вкусили напитка. Иисус и Мария, что за мерзейшая мерзость! Не знаю, чему это приравнять; мне показалось, прошла вечность, пока я корчился в судорогах рвоты, проклиная весь индейский божественный сонм и собственную глупость. Наконец я смог распрямиться и глотнуть воды. Старая ведьма и двое других ответили на мой бешеный взгляд радостными кивками, ропотом и пением стихов на своем языке — они очевидно радовались за меня, будто бабушки и дедушки, чей внук впервые вкусил от Святых Даров. Так подумав, я невольно вспомнил слова отца Михеля о «причастии наизнанку». Но таинство, как выяснилось, было еще в самом начале.
Мы уселись в круг под этим навесом, все четверо, и снова появилась чаша, из которой разлили в чаши поменьше. Я мысленно выбранился, но в чаше оказалось нечто другое (или то же, но в разведении) — гадкое, но переносимое. Опять все выпили, и трое моих товарищей занялись музицированием — госпожа Исабель (которой в этот миг совсем не подходило христианское имя) пела, колдун играл на глиняной свистульке, а третий подпевал и колотил в маленький барабан то кулаком, а то ладонью. Мне показали, что я должен хлопать в такт. Я подчинился, хотя ощущал себя полным дураком — разве что колпака с бубенчиками недоставало. Я думал уже, как бы уйти, не обидев моих наставников, но вдруг заметил — воистину, это нелегко объяснить даже на чистом немецком! — заметил, что предметы вокруг меня перестали быть, чем были, а превратились в нечто иное, хотя момента, в который совершалось превращение, я не помнил. И то же было с мною самим.
В начале радения я сидел, поджав ноги, как портной, на плетеной рогоже (таков их обычай везде, где я бывал), теперь же не чувствовал своих ног и локтей, а вместо рогожи передо мной и подо мной колебалась вода; волна догоняла волну и на гребнях сверкали солнечные искры. Я хотел протереть глаза, но не увидел своей руки и не мог понять, поднял я ее или нет. А в то же время я совершенно ясно видел и воду, и солнце, и небо в полосках облаков, какие бывают лишь над морем; и мысли не были мыслями сонного или пьяного, но я понимал все, что происходит, и говорил себе: так, колдовство началось. К тому же людям не снятся звуки, хотя в сон могут вплетаться звуки яви: услышав лошадиное ржание, спящий увидит лошадей. Тут все было наоборот: я слышал, как шумят волны, чувствовал запах моря, и даже мелкие брызги падали мне на лицо, но индейская музыка, и сами они, и шалаш — все пропало бесследно, и я беспрепятственно глядел в небо и летел вперед, на восток. Летел как стрела, выпущенная из лука, и не знал, куда меня направил неведомый стрелок, а хоть бы и увидел впереди страшную мишень, не смог бы остановиться или повернуть. Я порядком испугался, когда понял это, но вспомнил, что госпожа Исабель предостерегала меня от страха, и решил положиться на милость лучника, тетивы и ветра.
Потом движение волн замедлилось, одна поднялась к самым моим глазам, я увидел пену, медленно оседающую, золотистую от солнца, — пену в кружке с пивом. Полет закончился, я сидел за столом в том самом франкфуртском трактире, где некогда беседовал со студентами — и, уставясь на нарисованного оленя с золотым крестом меж рогов (вероятно, так же разинув рот, как и нарисованный святой), думал: добро, я в Германии, отсюда легче легкого попасть домой…
— Проклятье, Тефель, и еще раз проклятье, ни в чем на тебя нельзя положиться! Ничего не сделал, что должен был, только и сумел — обрюхатить дочку профессора!
На лавке рядом со мной сидел Генрих — с плеча свисает белый шелковый плащ, к берету приколот образок Иоанна Златоуста, кудри липнут к потному лбу, а довольная ухмылка явно противоречит словам.
— Чего это я не сделал? — огрызнулся я. Мне тоже было весело, пиво — Господи, пиво!.. — дышало ячменем и хмелем, и теперь, наконец-то, все стало хорошо и так, как должно.
— Не разобрался с моим наследством! — гаркнул Генрих. — Я тебе дом для чего завещал?
— Чтобы вам самому гостить в нем, нет? — вспомнил я давний разговор.
— Вот! — он наставительно покачал пальцем перед моим носом. — Вот именно! А ты как меня принял?!
— Никак…
— Вот! О чем тебе и твержу!.. Ну ладно. Я ведь, знаешь, теперь попрощаться с тобой должен. Опять и снова. Теперь — на всю вечность.
— Domine…
— Говори мне «ты», здесь уже можно, — Генрих усмехнулся. — Да, я умер. Наконец это случилось. И вот еще что, Тефель, — мне следовало тебя отблагодарить. Не люблю быть в долгу у хороших людей — занимать без отдачи надо у скверных…
— Брось ерунду молоть! — после таких слов «ты» далось мне без труда. — Это я у тебя в долгу, и в долгу останусь…
— Я еще не договорил, — сварливо перебил он, и я привычно заткнулся. — Кое-что доброе я для тебя — для вас обоих сделал. Хауф подох, и я к этому руку приложил.
— Хауф? Он пытался вредить ей?..
— Не бойся, сейчас сам все узнаешь. Поцелуй ее в щечку — мне так и не довелось. Прощай, Кристоф, я… ты, парень… А, ладно. Берет сними, дуралей!