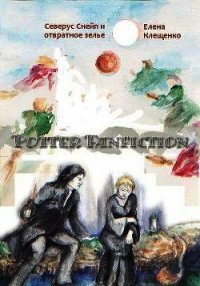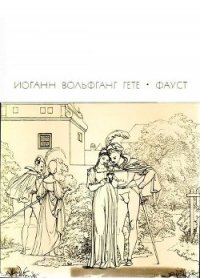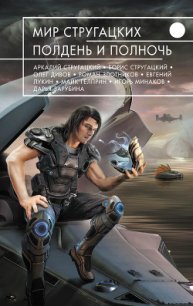Наследники Фауста (СИ) - Клещенко Елена Владимировна (книги .TXT) 📗
— Держи, подавись!
Я взял бумагу, скатанную в тугую трубку. Разворачивать пришлось двумя руками. Жирные, заплывающие буквы, знакомый почерк: «Я, Иоганн Фауст, доктор, собственноручно и открыто заверяю силу этого письма… душа или тело, плоть или кровь…»
Краем глаза я видел, как нечистый вытащил свою фляжку, принялся трясти ее, покуда в ней снова не забулькал коньяк, и припал к горлышку. Но мне было не до него: я прочел все, от первого слова до последнего, переломил лист пополам, против скрутки, и углом поднес к свечному пламени. Бумага загорелась легко и ярко, обычный старый документ, иссохший и хрупкий; желтые язычки преспокойно пожрали слова, написанные кровью учителя, затем подобрались к моим пальцам, и я опустил остаток в блюдечко подсвечника, где и остались через несколько мгновений хрупкие лоскуты черного пепла.
Дьявол и его ученики могут вопрошать пепел, но не могут восстановить во всей подлинности и прочности сгоревшие манускрипты. Я выполнил то, ради чего покинул Марию. Торжествовать не было сил; мне хотелось только лечь и закрыть глаза, и в жизни больше не видеть этого любителя коньяка.
— Кольцо, — сказал он.
— Всему свое время. Верни меня в Виттенберг, там отдам.
— Мы об этом не договаривались! Я тебе кучер или лошадь? Ты вроде пока меня на службу не нанял!
— Не мелочитесь, святой отец, — я потратил из-за вас много времени. Вам это пустяк, а мне пять дней трястись верхом.
— Страсть не дает покою? — ухмыльнулся бес.
— Не дает, — согласился я. Если он вздумает мстить и пакостить нам, то не ранее, чем мы будем вместе.
— Хуже нет, когда такое случается со стариком, — последнего ума лишился. Полетишь со мной?
— Если ты будешь так любезен. Где твои кони?
Сонливость моя мгновенно прошла. И вправду, было бы досадно расстаться с ним навсегда, так и не испытав главного, о чем рассказывал доминус Иоганн, — полета по воздуху!
— Ты, школяр, не усидишь на моем коне, — огрызнулся нечистый. — Довольно будет и плаща.
Глава 10
Плащ его был короток и трачен молью, и я сознавал себя порядочным дураком, когда усаживался на этот плащ, расстеленный прямо посреди дороги. Впрочем, я все же не снял мешок с плеча, и это было хорошо, потому что нечистый не думал меня морочить. Острый камень ушел из-под колена, домишки и купы деревьев двинулись вниз, и затем прохлада августовской ночи обернулась ветром, какой овевает лицо верхового всадника на полном скаку.
Что сказать об этом полете? Ведьмаки, разъезжающие на метлах, мне бы позавидовали, но сам я временами думал, что лучше бы конь, пусть самый злой и норовистый, чем тряпка, подбитая мехом. Дядюшка не дождался от меня мольбы о пощаде, но было-таки жутко, когда я сопоставлял расстояние до земли с толщиной мягкой ткани, которая шевелилась под нами при каждом движении. Звездная ночь хоть и черна, но не беспросветна, и я видел, как плывет и скользит под нами земля, как мелькают, будто поток крупы из рваного мешка, проплешины полей среди темной шкуры лесов, белесые дороги и блестящие реки. Города были похожи на кострища, в которых никак не могут угаснуть последние искры. Что касается звезд, то они стояли почти неподвижно, еще огромнее, чем на земле. Августовская ночь вступила во вторую свою половину, и мы мчались на запад, обгоняя ее. Одной рукой я держался за пояс нечистого — плащ был столь мал, что мы сидели чуть ли не в обнимку, — другой отирал слезы, выступившие от ветра. Нечистый не интересовался звездами: он держал на коленях магический кристалл и неотрывно глядел в него, может быть, направляя наше движение. Ауэрхан теплым клубком свернулся у меня на груди.
Наконец впереди воздвигся знакомый двойной шпиль, но тут же пропал из виду, ибо плащ пошел вниз. От земли пахнуло теплом и палыми листьями; пошатываясь, с шумом в ушах я ступил на дорогу — должно быть, милях в пятнадцати от города.
— Дальше сам пойдешь.
— Ох и жаден ты, возница. Довез бы до стены?
— Два часа до рассвета, — ухмыльнулся черт. — Исполнить бы твою просьбу, глядишь, найдется доброхот, расскажет кому следует, что доктор медицины летает в небесах подобно нетопырю, да препроводят тебя в узилище… Хотя в тюрьму ты так и так попадешь, рано или поздно, но к чему торопить события?!
— Верно, беру назад свои попреки. Дойду пешком.
— Кольцо. Где эта тварь?!
Нечистый, похоже, испугался, что я выбросил по дороге обезьяну вместе с кольцом.
— Мирно спит. — Я вытащил из-за пазухи Ауэрхана, чему тот совершенно не обрадовался. Так зол он был, что мена состоялась лишь после того, как на свет снова явился крупный алмаз.
— По хозяину и скотина — такая же сволочь, — проворчал Дядюшка. — Прощай, Вагнер.
Я попрощаться не успел: он попросту исчез, как исчезает лопнувший пузырь или вспышка пламени. Видно, мое общество ему вконец опротивело, как и мне — его.
К утру будешь дома, сказал я себе и зашагал по дороге. Усталости как не бывало — все, что творилось вокруг меня в этот утренний час, было прекрасней самого прекрасного, превыше музыки и слов — сказать иначе, все видимое и слышимое было словом и музыкой, чем-то разумным и внятным. Бледный свет у восточного горизонта, хруст камешков под ногами, одинокий крик ночной птицы, меркнущие звезды в небесах — все казалось отзвуками божественного Слова, а может быть, только именем, тем самым, которое вполголоса твердил я; тем самым, которое нынче выводит мое перо. Мария. Мария. Жизнь моя, мог ли я предвидеть.
Дорога шла под гору, и скоро справа и слева к ней подошли заборы городского предместья. Здесь были сады: прямо передо мной огромное яблоко сорвалось с ветки, свисавшей через ограду, звучно ударилось о земную сферу. Я поднял его, посеребренное холодной мелкой росой, с промоиной на том месте, где оно упало в траву. Хотел откусить, но передумал и положил в мешок. Должен ведь я ее чем-то задобрить, бессовестный обманщик, покинувший любимую на две долгих недели. Может быть, застану ее спящей, будто и не уходил. Положу яблоко на подушку… Впереди снова показались ратуша и собор. Я прибавил шагу.
Теперь же напишу о том, как рухнули мои надежды; о том, до чего слеп и глух я был: даже заметив у городских ворот отряд стражников, не почуял своей погибели, а только подосадовал на возможную задержку. Даже увидев, как из-за их спин выходит знакомая долговязая фигура; как дружище Хельмут вышагивает поперек дороги, заложив руки за спину и встряхивая лошадиной гривой, я лишь подумал: неймется падальщику, в такую рань и уже в трудах неправедных, и не сплюнуть ли через плечо, ведь не к добру такие встречи… Тут он повернулся, поймал мой взгляд, и я понял, что впрямь не к добру.
— Доброго утра тебе, Кристоф, — сказал он, и все было по-прежнему: монашеская умеренность голоса, легкая укоризна, призывающая заглянуть в глубины своей души даже того, кто ни в чем не виноват, и трогательное обращение по имени. К товарищу по нелегкому труду во имя Господа нашего.
— И тебе, — я попытался миновать его, как все преступники, обманывая мнимым равнодушием более себя, чем их. Но он заступил мне путь.
— Ты женился, я слышал.
— Это так.
— Поздравляю.
— Благодарю. (Чтоб ты сдох, чего же тебе надо?!)
— Прости, что посягаю на твое время, но у нас возникла насущная надобность побеседовать с тобой.
— Вот как. О чем же?
— Следуй за мной, и все узнаешь.
— Прямо сейчас?..
— Разумеется.
— У меня важное дело в городе. Я должен сказать моей жене кое о чем… что очень важно для меня… для моих дел…
Я сбился, ибо, слушая свой лепет, понял, что моими устами сейчас говорят его бесчисленные жертвы. Те, кто просил отсрочки, цеплялся за эфемерную надежду, будто бы скрытую в его доброжелательном тоне, ссылался на вздорные обстоятельства, отталкивая подступающий ужас… Наши вопросы и ответы были заранее известны нам обоим, словно мы были детьми и забавлялись игрой. И ответ был знакомым.
— Мы не задержим тебя надолго. Скорее всего, что нет.