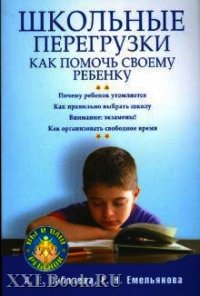Полынь – сухие слёзы - Туманова Анастасия (смотреть онлайн бесплатно книга .TXT) 📗
– Это кто по мою душу да к самой ночи? – послышался скрипучий голос, и из избы появился Савка. – А-а, девица-красавица… Акулина Кузьминишна, кажись?
– Я… – голос Акулины дрожал от страха, она судорожно стиснула под передником свой узелок. – Добрый вечер, Савелий Трифоныч.
– Проходь, – велел Савка. Акулина колебалась, и он сердито прикрикнул на неё: – Заходь, девка, сказано тебе! Не на дворе ж о деле толковать! А коль не надобно, так и проваливай!
– Господь Вседержитель… – прошептала Акулина. Глубоко, словно перед прыжком в воду, вздохнула и быстро вошла в избушку колдуна.
Ещё из сеней в лицо ей пахнуло вонью, и к горлу поднялась волна дурноты. Стараясь не дышать, Акулина заглянула в горницу. Там было сумрачно; невидимый хозяин, приглушённо ругаясь, чем-то гремел в углу. Когда глаза девушки немного привыкли к темноте, она разглядела небольшую, очень грязную комнату. По углам валялся хлам: на глаза Акулине попался сломанный обод от колеса, разбитая корчага, закопчённая и погнутая самоварная труба, какие-то тряпки, скрученные в жгут и брошенные возле печи, покрытой жирными хлопьями сажи. На липком, нескобленом столе валялись коровьи рога, гвозди, пучки трав, куриные кости, стоял полупустой водочный штоф и немытый стакан. Надо всем этим, надсадно гудя, кружили мухи. В красном углу, как ни таращила глаза гостья, не было видно ни одной иконы. А с полатей горели жёлтые глаза. Глаза в упор, не отрываясь, смотрели на обмеревшую Акулину.
– Брысь, холера! – проворчал из-за печи Савка, и огромный чёрный кот, спрыгнув с полатей, начал важно расхаживать по полу. Акулина прижалась спиной к стене. Хозяин дома меж тем продолжал ожесточённо копошиться за печью. Наконец он появился, распространяя вокруг себя облако перегара: взъерошенный, мрачный, в надетом наизнанку кожухе с отрезанными рукавами. Блестящий, чёрный глаз сумрачно взглянул на оробевшую вконец Акулину.
– Знаю, зачем явилась, – первым делом объявил Савка, смахивая со стола всё, что на нём лежало, прямо на пол. – Давай кажи.
Акулина, трясясь и недоумевая, откуда колдуну может быть известно то, что ей пришло в голову лишь минувшей ночью, развернула на липкой столешнице свой узелок. Внутри оказалась чистая рубаха и свёрток белёного холста.
– Маловато даёшь, красавица, – огорчился Савка, сощурившись на подарок. – Дело-то твоё трудное будет.
– Чего ж тут трудного, Савелий Трифоныч, помилуй! – осмелилась возразить Акулина. – Немного прошу – законного жениха вернуть! Нешто тебе не под силу?
– Мне, милая, много что под силу, – важно заявил Савка, судорожно вспоминая про себя – кто являлся Акулькиным женихом. – Только здесь дело куда какое трудное… У тебя подаренье какое женихово имеется?
– Нету…
– Вовсе?! – поразился Савка. – Что ж это за жених этакой, что пожадился невесте подарочка?
– Так уж вышло, – сухо сказала Акулина. – Нешто без этого никак, Савелий Трифоныч?
– Можно, да тяжело будет… – Савка нахмурился. Акулина ждала, умоляюще глядя в нечистую, заросшую диким волосом рожу колдуна. Тот походил по горнице, пнул подвернувшегося под ногу кота, отошёл за печь и вернулся оттуда с жестяной миской, до краёв налитой тёмной водой. Миску Савка поставил на стол и, растопырив пальцы, принялся над ней бормотать. Акулина, у которой со страху зуб на зуб не попадал, старалась даже не смотреть в ту сторону и, едва шевеля губами, читала про себя «Верую».
– Не молись у меня, дура, не молись! – грозно прикрикнул, не оборачиваясь, Савка. – Выгоню!
Акулина покорно смолкла, дрожа с головы до ног.
– Поди-ка вот сюда, – велел Савка и за руку притянул трясущуюся девушку ближе к столу. – Ну-ка, в воду глянь! И жениха свово по имени громко трижды позови! И сразу – прочь, не то как есть ослепнешь!
Обмирая от ужаса, Акулина нагнулась над колышущейся тёмной зыбью и срывающимся шёпотом позвала:
– Антип Прокопьич!..
– Громче, дура, не расслышит! – повысил голос Савка.
– Антип Прокопьич, Антип Прокопьич! – во всю мочь выкрикнула Акулина. Савка сильным толчком отбросил её от стола и нагнулся над миской сам. Акулина не могла видеть, каким ликующим, бешеным огнём загорелся единственный глаз деревенского колдуна. «Вот оно что! Антипка Силин… Подарков не дарил, стал быть, и замуж не звал… Вестимо, коль он три года с Устькой Шадриной сговоренный… Ох, хорошо, ох, хорошо… Ну, Шадриха, пожди у меня теперь!.. Ох, свезло, ну и свезло же! Послала судьба дурищу эту… Всё, Шадриха, будешь Савку-колдуна век помнить!»
Выпрямился Савелий с мрачным, суровым лицом.
– Плохи дела, девонька, – опечаленно сказал он. – Куда как плохи. И холст свой забери, и рубаху… Не возьмусь я.
– Да… Отчего ж, Савелий Трифоныч? – чуть не плача, спросила Акулина. – Тут делов-то – заговор остудный нашептать! Эта змея Устька его присушила, видит бог, присушила! Сама нищая, так в богатую семью захотелось! А мы с Антипушкой ещё когда уговаривались! И слово он мне давал, и обещал, коль тятька не согласится, убегом со мной обвенчаться! Ежели тебе мало, так я опосля Спаса ещё холстины принесу да жита…
– Дура ты, девка, дура, – грустно сказал Савка. – Не надобно мне твоё жито, мне своя жизня дорога. Нешто не знаешь, что Устька – ведьма? Бабка её колдунья, а сама Устька – втрое! Мне с ней вязаться – себе дороже, вся сила лесная, вся нечисть подземная за неё стоит! Давеча ураганом ржи за рекой поваляло – думаешь, чьё дело-то?
– Неужто Устиньино?! – поразилась Акулина. Савка осторожно умолк, соображая, не лишку ли хватил, но Акулина всплеснула руками.
– И верно ведь! Савелий Трифоныч! Да ведь она же, проклятая, и коров сдаивала всё лето! Таньке-то, дуре, голову заморочить долго ли?! Ишь, святую из себя корчила, «для робят», мол… А сама доила и доила! И непогодь, говоришь, она наслала?!
– Истинно! – кивнул Савка, почти ничего не понявший из Акулининой тирады, но сохранявший на всякий случай торжественно-печальное выражение лица. – Погоди, она ещё и не то устроит! В годы женские входит, ведьминой силы прибавляется! И мне с ней тягаться, девонька, не с руки. Пождите, православные, она ещё вам такую жизню устроит – взвоете!
– Да что ж это… – простонала Акулина, без сил опускаясь на лавку. – Да что ж это, Савелий Трифоныч, за беззаконие… Коль уж Антипа моего увела, так то хоть понять можно, на сытое житьё захотелось… Но Ефимка-то ей на что сдался?! Ведь отродясь они друг на друга не смотрели, а она его у Таньки из-под самого носа!.. На что ей, проклятущей, оба сразу-то?! Да нешто управы на неё, нечистую, не сыщется?! Помоги, Савелий Трифоныч, всё, что есть, тебе отдам, – помоги-и-и… – И, повалившись головой на стол, она зарыдала.
Савка молчал, но глаз его из-под спутанной гривы волос горел исступлённо, яростно.
– Помочь-то можно… – негромко сказал он, когда Акулинины рыдания попритихли. – Отчего ж не помочь, когда дело нужное. Только тяжко это будет. И помощь твоя, девка, понадобится. Поклянись, что слухать меня станешь, что бы ни велел!
– Я согласная, Савелий Трифоныч, – хрипло, решительно сказала Акулина, поднимая со столешницы залитое слезами лицо. – Всё, что ни скажешь, – всё сделаю. Весь свой сундук с холстом да тканым тебе отволоку – изведи ты её только, змеюку!
Туча с градом пришла в ночь перед праздником Ильи-пророка. Как раз накануне отец Никодим отслужил молебен в церкви, прося благодатной погоды для жатвы, крестьяне с иконами в руках крестным ходом обошли все поля, с надеждой поднимая головы к чистому, ясному небу и отчаянно, без слов, надеясь: повезёт… Всё оказалось напрасным: ночью ударил гром, крупные тяжкие градины полетели на несжатые поля, посекли склонившуюся до земли рожь, переломали хрупкие стебли… Наутро над Болотеевым стоял вой: почти весь хлеб был безнадёжно загублен, нетронутыми оставалось лишь несколько окраинных дальних полос, куда не дошла гроза. Сжать их нужно было любой ценой как можно скорее.
Теперь согнутые фигуры с серпами темнели при мертвенном свете месяца в полях от зари до зари: крестьяне лихорадочно жали на своих полосах. А, едва светлел лес и из-за него неумолимо начинало подниматься розовое сияние, на холме уже появлялся ненавистный тарантас Упырихи, и сама она, в окружении своей охраны, выходила на дорогу. Крестьяне, не успевшие заснуть ни на минуту, нехотя оставляли свои недожатые полосы и сонными кучками, спотыкаясь, как осенние мухи, брели к барским полям. Мимо Упырихи проходили с поклонами, а она, прямая и сухая, как палка, с выцветшими, блёклыми глазами, даже не наклоняла в ответ головы. И не замечала тяжёлых, усталых, полных горечи и ненависти взглядов у себя за спиной, не слышала чуть заметного движения почернелых, потрескавшихся губ: «Проклятая…» С утра до ночи, неутомимая, она простаивала на работах. С десяток человек избили на конюшне за то, что, на взгляд управляющей, они с недостаточным рвением трудились на барском поле. Двух молодых парней Упыриха подвела не в очередь под красную шапку: после того как обнаружила их вечером храпящими в меже. Ни рыдания матерей и жён, ни клятвы самих ребят в том, что они свалились против своей воли после того, как три ночи подряд не сомкнули глаз в поле, не помогли.