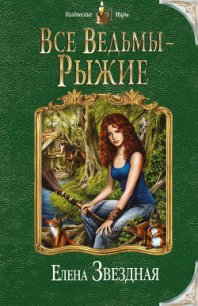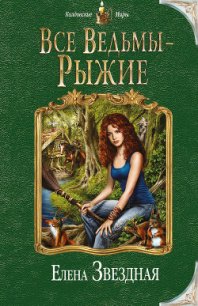Последнее лето - Арсеньева Елена (читать книги без сокращений .txt) 📗
«Батюшки-матушки! – воскликнул мысленно Шурка, вспомнив, как выражала свое изумление кухарка Даня. – Батюшки-матушки, вольно же газетчикам трепаться о том, что трон под самодержцем ощутимо шатается, а ряды революционеров крепнут! Это где ж они крепнут, ряды-то? И кем крепнут? Алкоголиками, девчонками и тупицами?!»
В ряды алкоголиков Шурка ничтоже сумняшеся поставил полуживого Грачевского и Альмавиву с его багровым носом, девчонками были, понятное дело, Мопся и Тамарочка, тупицами – парочка пролетариев. Шурка как раз задумался о том, в какую категорию попадает он сам (по его мнению, выходило, что ни в какую!), как в окно снова стукнули.
Альмавива на полусогнутых помчался к двери и через минуту вернулся в сопровождении парня в короткой бекеше и круглой шапке-бадейке. Почему-то при виде гостя и Мопся, и Тамарочка разом вспыхнули и встрепенулись.
Грачевский сардонически ухмыльнулся, пытаясь собрать разбегающиеся глаза.
Пролетарии приободрились, как солдаты перед командиром.
Шурка насупился: новый гость оказался как-то чрезмерно смазлив! Такие вот темноволосые, синеглазые, с чеканными чертами обветренных, смугло-румяных лиц имели успех у женского пола любого сословия, в любой компании! Было незнакомцу лет двадцать пять, рост его без спора следовало назвать высоким, плечи – косая сажень, талия узкая, словно у гимнаста, потертая бекеша сидела как влитая...
– Негусто, – проговорил он холодным, недовольным голосом, равнодушно смерив взглядом собравшихся. – В чем дело, товарищ Лариса?
– Я опасалась приводить слишком много непроверенных людей, – извиняющимся тоном проговорила Мопся. – Для первой встречи довольно, товарищ Виктор. Но где же товарищ Павел?
– Он уже здесь, – заявил синеглазый, посторонившись, и в комнату из сеней вступил еще один высокий и статный мужчина – в коротком романовском полушубке, сильно присобранном в талии, и нахлобученной на лоб папахе-«гоголе», которую он не снял и в помещении. Он был строен, даже худощав, на носу сидели круглые синие очки в железной оправе, какие носят люди, больные глазами; пышные усы и довольно большая борода скрывали чуть не половину лица.
«Конспирация! – понял Шурка. – Маскировка! И очки, и бородища эта... И никакой он, конечно, не товарищ Павел, так же, как этот наглый – не Виктор, а Мопся никакая не Лариса. Ну да, партийные клички... А впрочем, какая разница? Пусть хоть Монтигомо Ястребиный Коготь он называется, мне-то что?»
Монтигомо, то есть товарищ Павел, повел на собравшихся своими круглыми очками, которые делали его похожим на слепого, и произнес звучным, необыкновенно приятным голосом:
– Здравствуйте, товарищи.
Девчонки снова принялись краснеть. Очки и бородища выглядели забавно, однако голос у Павла оказался особенный, некоторым образом даже волнующий. Похоже, с неудовольствием признал Шурка, глядя на Виктора и Павла, в революцию идут не только уродцы вроде Альмавивы, но и очень привлекательные мужчины. И он снова с досадой вспомнил, что у него самого рост... не очень, скажем прямо, рост, чуть больше пяти футов. Хотя, конечно, говорят, что и Пушкин, и Лермонтов были очень маленького роста. Но это когда было! И вообще, что дозволено Юпитеру...
Настроение у Шурки испортилось.
– Ну что ж, – сказал товарищ Павел. – Приступим к делу. Мы с новыми товарищами пройдем поговорим, а вы тут оставайтесь на случай неожиданностей. Или их можно не опасаться, Виктор?
– Все подходы к дому охраняются, – заверил синеглазый Виктор. – Мышь не проскочит. Мои ребята крепкие. Но, конечно, береженого Бог бережет, так что сделаем все по плану.
После этих слов Альмавива нагнулся и вытащил из-под стола довольно объемистый саквояж, чем-то похожий на докторский, с каким, сколько Шурка себя помнил, приходил к Русановым в дом Иван Иванович Вронский, их семейный врач. И он привычно наморщил нос, ожидая уловить запахи карболки и йода, которыми вечно несло от Вронского и его саквояжа. Однако пахнуло совсем даже не карболкой, а селедкой и луком, и вместо медицинского инструментария на свет были извлечены бумажные и газетные свертки с загодя нарезанными хлебом, дешевой колбасой, селедкой с луком, солеными огурцами, сваренной в мундире картошкой... Альмавива и помогавшие ему пролетарии проворно раскинули закуску по столу, расставили щербатые стопки, появившиеся из того же саквояжа, который, оказывается, был некоей разновидностью скатерти-самобранки. Итогом ее щедрости явились две бутылки: одна водочная с красной сургучной пробкой, другая с вином «Изабелла».
– Вуаля! – радостно сказал Грачевский, который до сей минуты клевал носом, и проворно придвинулся к столу.
– Охолонись, – посоветовал Виктор, хлопнув его по руке, уже потянувшейся к бутылке. – Ты не на пирушку зван, а на партийное собрание. Успеешь налакаться!
«Ага, – смекнул Шурка, – они будут изображать дружескую пирушку на тот случай, если нагрянет кто-то посторонний или, не дай бог, полиция. Это прикрытие нам... Ну и прикрытие!»
– Работайте, товарищ Феоктист, – кивнул Павел Альмавиве. – Не забудьте обсудить те вопросы, которые мы с вами проговаривали.
Альмавива кивнул. Оказывается, его звали товарищ Феоктист.
«Ни черта они не станут обсуждать, – подумал Шурка. – Как только мы уйдем, напьются. Грачевский уже совершенно готов, ну, эти быстро догонят... Тоже мне революционеры!»
Он поглядел на стол, на грязные клочки бумаги, раскромсанную селедку, и его замутило. Дома, перед тем как подать селедку, кухарка Даня начисто выбирала из нее все косточки, снимала кожуру, вымачивала в молоке, однако Шурка все равно брезговал и косоротился. Он любил только колбасу – докторскую, нежно-розовую, тоненько-претоненько нарезанную, с хлебом и маслом, и еще ломтик сыру поверх положить... Но здесь и колбаса была какая-то синюшная, бугристая. Как это можно есть?! Шурка нипочем не стал бы, даже ради конспирации.
– Костя, ты знаешь кто?
– Кто? – томным голосом спросил Константин Анатольевич Русанов и осторожно переполз с нагого тела любовницы на свободное место рядышком.
Простыня мигом стала влажной от пота, и Константин Анатольевич гордо усмехнулся. Да, сегодня он имел все основания гордиться собой. Даже смешно вспоминать, с каким отчаянием читал про эту, как ее... семенную жидкость, то есть нет, про вытяжку из семенных желез. Сегодня все было замечательно: долго, сильно, блажен-н-но, особенно в последние мгновения, которые так и тянулись, длились, вытягивали душу из плоти и семенную жидкость из естества... Ах, Боже ты мой... Надо думать, Клара тоже довольна, судя по ее громким стонам. С кем она сейчас его сравнит? С каким-нибудь великим героем-любовником из какой-нибудь пьесы? «Антоний и Клеопатра», а в роли неутомимого Антония – голый присяжный поверенный Русанов! Кто там еще славился по этой части? В голову ничто нейдет от телесного переутомления... ах-ах, сейчас бы поспать...
– Ну, кто? – чуть слышно промурлыкал он, с готовностью погружаясь в дрему.
– А помнишь, у нас шла пьеса Протасова «Сердце мужчины»? – продолжала Клара.
– Э-э н-нет... – выдохнул разнеженный Русанов. – Да-а...
«Э-э н-нет» – это вдох, «да-а» – это выдох... Хр-р-р...
– Неужели забыл? – Клара шевельнулась рядом, прильнула грудью, ее потное тело показалось таким холодным, что Русанов вздрогнул, озяб и мигом проснулся.
– Ну что ты, Кларочка, конечно, я все помню! Как я мог забыть?
Сохрани и помилуй, Господи, от того, чтобы забыть хоть одну пьесу из тех, в которых играла Клара! Упреков не оберешься. Однако «Сердце мужчины» Русанов и впрямь помнил. Строго говоря, речь там шла не столько о сердце, сколько об источнике пресловутой жидкости. Вся философия пьесы строилась на мысли, что мужчина может одновременно любить двух женщин: жену, которая дает ему домашний уют и создает благоприятную обстановку для развития его духовных способностей, и любовницу, к которой влечет его простое половое чувство, «чувство самца», как это называлось в пьесе.