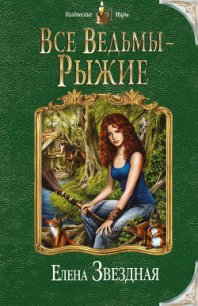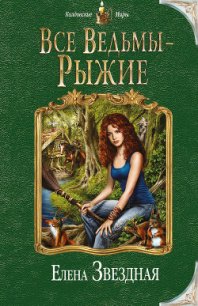Последнее лето - Арсеньева Елена (читать книги без сокращений .txt) 📗
Потом, спустя четыре или пять лет, было то лето в Доримедонтове Русановых... вернее, Понизовских, поскольку принадлежало оно все же не самому Константину Анатольевичу Русанову, а сестре его покойной жены Олимпиаде Николаевне – тете Оле. В августе праздновали Шуркины именины. Народу взрослого собралось много, Саша Русанова и Варя чувствовали себя не барышнями, а девчонками. Танцевали, играли в шарады, ужинали на террасе старого дома. Некоторые на ночь разъехались по своим близлежащим дачам или вернулись в город. Митя Аксаков приехал на один день и ночь, наутро предстояло непременно отбыть в Энск, а там и в лагеря, куда выехало его училище на лето. Оставшиеся решили, что праздновать будут до рассвета, но тете Оле вдруг показалось неприличным, что Саша и ее две подружки, Тамара Салтыкова и Варя Савельева, намерены ночь не спать. Ровно в десять часов непререкаемым тоном она предложила девочкам отправиться по кроватям. Делать было нечего. Все три барышни даже всплакнули (Марина-то Аверьянова оставалась бодрствовать!), но потом Саша и Тамара как-то разом уснули, а Варя решила перехитрить всех: не спать до рассвета, а когда Митя Аксаков будет уезжать, выйти на крыльцо, словно невзначай. Ну что ж, как всегда бывает в подобных случаях, перед самым рассветом Варя уснула, а пробудилась только от звона бубенцов. Экипаж с Митей Аксаковым был уже далеко, когда она решилась выглянуть из окна...
Наутро моросил дождь. Саша и Тамара перебирали нитки (обе были вышивальщицы), сравнивали какие-то узоры; не спавшие ночь гости и хозяева мирно отдыхали; зловредная тетя Оля, у которой была бессонница, раскладывала в столовой пасьянс; кухарка Даня накрывала к большому завтраку, а Варя, взяв черный итальянский зонт Константина Анатольевича, грустной тенью бродила по саду. Горничная Даня увидела ее, вышла на крыльцо и сказала разбитным голосом:
– Ах, барышня, как вчера весело было! Я все в окошко смотрела: и пели, и танцевали, а молодой Аксаков Марине Игнатьевне все ручки целовал!
Потом, еще через год, Митя Аксаков приехал в Энск на Рождество и вдруг увлекся Сашенькой Русановой. Бегал за ней на каток, пока Константин Анатольевич про это не узнал и не запретил настрого. Ох, сколько слез Варя пролила, с завистью наблюдая развитие «конькобежного романа»... Самое ужасное было – называть «разлучницей» закадычную подружку, почти родственницу!
Затем прошлым летом, опять же на даче у Русановых, внезапно выяснилось, что ни Саша Русанова, ни, само собой, Марина Аверьянова, «толстый мопс», Митю Аксакова нимало не интересуют, а глаза его, серо-зеленые, всегда иронически прищуренные, а оттого казавшиеся какими-то загадочно-длинными, обращены исключительно на Варю Савельеву...
Теперь они жених с невестой, о других барышнях и девицах и помину нет, но Варе очень приятно подзуживать Митю воспоминаниями о тех прежних, доисторических временах, когда Вавочка-Болячка для него как бы и не существовала. Вот если бы только отец получше относился к Мите! Они отчего-то спорят, спорят все время, а о чем? О какой-то ерунде, о которой и говорить не стоит. Любимая тема – возможна война или нет. Отставка премьер-министра Коковцева, приход Горемыкина, арест какой-то там Розы Люксембург, славянский вопрос, восточный вопрос... Кому это нужно? Кому важно?
Важно на самом деле только одно: догадается ли Митя отодвинуть острый, словно нож, край башлыка, чтобы они наконец могли толком поцеловаться, или Варе придется сделать это самой?
«Социал-демократами внесен в Думу запрос о преследованиях полицией продавцов рабочих газет, у которых отбираются даже не конфискованные номера».
«Министерством народного просвещения циркуляром предложено не ставить совсем отметок за поведение учащимся средних учебных заведений, уволенным за полной неблагонадежностью».
«По слухам, министр иностранных дел С.Д. Сазонов уходит в отставку. Кандидатами на его место называют Шебеко и Гартвига».
Санкт-Петербургское телеграфное агентство
«А.И. Куприн написал новый рассказ под заглавием «Винная бочка». Перед читателем проходит картина дегустации вин, поражающая великолепным знанием дела и чисто купринским рельефом письма».
«Раннее утро»
Мопся и в детстве была врушка, и по сю пору не исправилась. Обманула Шурку: ни на какую Малую Ямскую его не повела. Дошли от Острожной площади до Ошарской улицы, да вдруг свернули почти обратно – в Ковалихинский овраг, а потом какими-то немыслимыми закоулками выбрались на Малую Печерскую, оказавшись совсем близко к Сенной площади. Оттуда скользкими дощатыми мостками, все время оседавшими под ногами, прошли немного к Верхней Волжской набережной. Шурик сперва спрашивал, куда идем, но Мопся молчала, сжимая губы, только все озиралась да оглядывалась, а потом, когда расспросы вовсе надоели, буркнула:
– Ничего не скажу, пока не придем. Конспирация, не понимаешь, что ли? Можешь поворачивать домой, если не нравится.
– Да нравится, все мне нравится! – закивал Шурик, втихомолку уже мечтая, чтобы Мопся обиделась и прогнала его. – Только холодно очень. Ветер в уши дует, а я башлык забыл.
Мопся, ходившая всегда в куцей мужской кепке, посмотрела на него презрительно и ничего не ответила. Уши у нее были красные, словно кто их надрал.
Напротив татарской мечети, на самом ветродуе, топталась высокая тоненькая девушка в красивой коротенькой черной шубке, закутанная в белую пуховую шаль так, что лица не видно. Марина помахала ей, девушка сделала несколько несмелых шагов навстречу. В ней было что-то знакомое. Шурка даже струхнул: не Сашенька ли? Фигурой и ростом она сильно напоминала сестру. Нет, не Сашенька, конечно. И слава богу! Нечего ей тут делать! А эта девчонка – просто дура, раз с Мопсей связалась. Про то, что он сам тоже связался с Мопсей, а значит, тоже дурак, Шурик, по русановскому обычаю, предпочел не думать.
Коротко кивнув девушке, Марина не стала знакомить с ней Шурку, а просто сказала:
– Ну, пошли.
Почему-то девушка старалась держаться сзади. Шурка украдкой на нее косился, но она избегала его взглядов, отворачивала лицо, поглубже зарывалась в свою шаль.
Чем дальше, тем сильнее он был уверен, что знает ее.
Побрели обратно от реки и наконец остановились перед неряшливым домишкой в глубине малопечерских двориков. Ветер рвал с покосившихся заборов плети начисто высохшего прошлогоднего хмеля; посеревший, покрытый тонкой слюдяной коркой снег был утыкан будыльями подсолнухов. На затоптанном крылечке сидела тощая беременная кошка и орала дурным голосом.
– Киса, киса... – умильно сказала Марина и потянула на себя тяжелую, рваным ватным одеялом подбитую дверь, желая впустить кошку в тепло. Однако дверь оказалась заперта, а кошка рванулась в сторону и замяукала возмущенно.
– Вот дура, – сказал Шурка. – Ей погреться предлагают, а она...
Кошка заорала еще громче, еще визгливей. Редкие прохожие, мелькавшие в просветах между домами, на этот крик оглядывались, всматривались.
– Ох, она нам, кажется, сейчас всю конспирацию распугает, – весело сказал Шурка, косясь на укутанную девушку. Где же он ее видел, интересно?!
Марина посмотрела на него, как на святотатца, и поджала губы. А Шурке стало ужасно смешно и на душе полегчало. Орущая кошка придавала происходящему оттенок безопасной комичности: ведь, если честно, он побаивался собрания и уже ругательски ругал себя за то, что потащился с Мариной. Надо было какой-то другой предлог для оправдания придумать там, за кулисами, на кой черт ему эти политические игры? Эсеры – или как они там называются, те, с кем Маринка якшается, – публика опасная, на их совести даже убийства политические есть... Шурка и боялся, и страшно стеснялся показать свой страх. Особенно перед этой молчаливой незнакомкой. Кошка очень кстати пришлась, помогла обрести присутствие духа, а ухмылка, которая приклеилась к губам, вполне могла сойти за улыбку бравады.