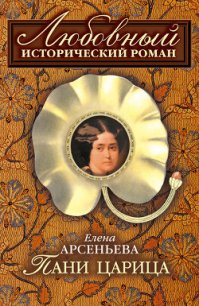Царица без трона - Арсеньева Елена (лучшие книги без регистрации .TXT) 📗
– Я тебе не раб! – взвизгнул Юшка, брызжа сквозь щербинку слюной. – И ты врешь! Врешь все! Клевету на меня наносишь, возводишь злую напраслину! Взгляни сюда и скажи, что это!
С этими словами Юшка рванул ворот своей красной глуховоротки и открыл шею, поперек которой шел косой, слабо видный шрам.
– Что ж тебе сказать, – исподлобья глянул Романов. – Когда Михаил тебя привез, у тебя и впрямь была шея поранена. Надо быть, повредился, играючи в… тычку. – Только лишь самое тонкое ухо различило бы заминку, которую допустил Романов пред этим словом. – Ты хворал после раны, тяжко хворал… Батюшка твой не пожелал возиться с тобою, спровадил в чужие люди. А в моем доме тебя выходил вот этот самый Матвеич, которому нынче ты норовишь ответить черной неблагодарностью. А ведь это грех, Юшка. Тяжкий грех! Умоляю тебя не брать его на душу, а просить у нас у всех прощения, с Манюней же повенчаться завтра поутру. На счастье, тут случился отец Пафнутий, который вас и повенчает.
– Нет! – взвизгнул Юшка, окончательно утратив власть над собой от той нескрываемой насмешки, которой было пропитано каждое слово боярина. – Не бывать этому! Я… я никакой не Отрепьев! Думаешь, я ничего не помню? Я все помню! Про Углич помню! Про то, как Оська – да, его звали Осипом Волоховым! – подошел ко мне с ножом в руках и сказал: «Дивно хорошо у тебя ожерелье новое, царевич! Дай-ка погляжу…» А вслед за тем чиркнул меня ножом по горлу!
Наступило мертвое молчание. Юшка озирался с торжеством. Отец Пафнутий осенял его крестным знамением, словно заклинал силу нечистую. Боярин Романов, видимо, растерялся, не знал, что сказать. Матвеич с внучкой таращились на обезумевшего холопа с нескрываемым ужасом.
И тут раздался смех. Детский смех.
– Ой, Юшка, да это ты, что ли, царевич? – заливался-хохотал Феденька. – Эва хватил! Разве царевичи такие бывают? И все ты врешь, будто помнишь что-то. Небось наслушался калику перехожего, что сказывал про погибель царевича Димитрия, – только на прошлой неделе у нас ночевал один такой в черной избе, для людей пел! – вот и врешь теперь невесть что.
– Устами младенца глаголет истина, – негромко изрек отец Пафнутий, и боярин Романов с видимым облегчением вздохнул:
– Воистину так!
Вслед за тем он переглянулся с монахом. Обмен взглядами был краток, однако могло показаться, что эти двое быстро провели меж собой какой-то очень серьезный разговор, после чего Романов удовлетворенно кивнул и хлопнул в ладоши:
– Эй! Никишка, Минька, Васька! А ну, сюда!
Из-за дома выскочили три ражих, широкоплечих молодца и преданно уставились на хозяина.
– А ну, вяжите его, да покрепче, – приказал боярин, взмахом руки указав на оторопевшего Юшку. – И рот, рот немедля кляпом забейте. А ежели чего успеет языком намолоть, затворите слух свой, чтобы не слышать опасных, крамольных речей.
Он еще продолжал отдавать приказания, а между тем верные слуги, натасканные, словно борзые псы, повиноваться первому слову господина, уже навалились на замешкавшегося Юшку, скрутили его кушаками, вбили в рот рукав его же собственной рубахи, без жалости оторванный, и швырнули к ногам боярина.
– Ради вашего же блага, – серьезно сказал Александр Никитич, – умоляю вас молчать о том, что вы сейчас слышали. Парень спятил, заговаривается, однако же болтовня его может стоить жизни и ему, и всем нам. Отныне никто не должен даже имени его упомянуть, да и скоро забудется оно. Нынче же отец Пафнутий возьмет его в свою обитель, а уж какое там даст ему прозванье, то Бог ему подскажет.
– Нынче день Григория Депоклита, – промолвил Пафнутий. – Быть по сему! Грузите его в телегу да везите в Чудов, а я вслед буду.
– Прости, отче, что так неладно завершился наш разговор… – начал было Романов, но игумен перебил его:
– Неладно, правда что, неладно! Не подобает моему сану говорить такое, однако я предпочел бы видеть этого охальника не среди живых, а…
– Ништо! – храбро бросил Александр Никитич, увидев, каким испугом вспыхнули глаза сына, слушавшего непреклонного монаха. – Обойдется.
– Дал бы Бог.
Романов сбежал с крыльца, склонился над связанным и сказал быстро, тихо, так, чтобы никто, кроме Юшки, не мог его слышать:
– Я мог бы убить тебя, и никто не спросил бы с меня ответа. Я мог бы сгноить тебя в самом дальнем и глухом монастыре, но я помню твою службу и не хочу платить злом за нее. Отдаю тебя в Чудов монастырь, где ты обретешь не только смирение, столь необходимое душе твоей, но и знания, которые разовьют твой ум и приучат смотреть на свое положение без гордыни и заносчивости. Ты знаешь, где находится Чудов монастырь. В Кремле! Там ты волей-неволей принужден будешь молчать – чтобы спасти собственную жизнь. Ибо если чужое, недоброе ухо услышит твои измышления, царь Борис немедля отправит тебя на плаху. Помни это и берегись. Заклинаю тебя твоим же благом: берегись, Отрепьев!
При звуке этого имени Юшку словно раскаленным кнутом ожгло, так он дернулся, однако боярин уже не обращал на него внимания: ушел в дом, а вслед за ним ушли и отец Пафнутий с Феденькой.
Крыльцо опустело. Слуги выводили лошадь, чтобы запрячь в телегу. Манюня рыдала на дедовом плече, с тоской и жалостью косясь на Юшку, который извивался в пыли, пытаясь что-то сказать, однако из заткнутого рта вырывались какие-то нечленораздельные звуки:
– О-ои-ы-е-я!
«Попомнишь ты меня, боярин!» – грозил Юшка в последнем усилии ненависти.
И угрозу свою он сдержал.
Август 1601 года, Польское королевство, Самбор, замок Мнишков
Гости вернулись за стол, и им начали подавать цукры – сиречь сладости. Верхние скатерти были уже сняты, теперь слуги уставляли стол сахарными изображениями городов, деревьев, животных, людей… Особенно много слуг сновало вокруг царевича, норовя услужить новому хозяйскому фавориту и попасться ему на глаза: а вдруг покличет в придворные? Как раз удобная минута выбраться из грязи в князи!
Какой-то рыжеватый хлопец так старался, что едва не облил гостя вином, после чего поспешно исчез и более в зале не появлялся – опасаясь, очевидно, заушин, коими его наградил бы за неуклюжесть рассерженный подстолий. Однако Димитрий вряд ли это заметил: он во все глаза смотрел на стол, где теперь возлежал огромный двуглавый орел, а на другом блюде возвышался московский сахарный кремль с позолоченными куполами церквей. Это было изваяно нарочно в честь царевича – так требовал обычай: представить среди сладостей некое изображение, имеющее отношение к почетному гостю. Димитрий смотрел на эти красоты с детским восторгом, ибо никогда в жизни не видел ничего подобного, а уж когда он узрел свое собственное подобие на троне и в Мономаховой шапке, то все могли заметить, что он с трудом удержался от слез.
Однако вскоре на его лице отобразилось другое чувство. Это было неприкрытое беспокойство. Иногда он охлопывал свои зарукавья или пазуху, стараясь делать сие незаметно, как-то раз даже снял магерку (надо ли уточнять, что Димитрий был одет не в московский, а в щеголеватый польский наряд, приводивший его, по-видимому, в восхищение) и заглянул внутрь.
Между тем гости, как ни были они увлечены цукрами и хмельным, забористым вином, кое подавалось к сладостям, заметили внезапную озабоченность царевича и тоже обеспокоились.
– Видимо, пан Димитрий заскучал, – начались разговоры. – Он слишком мало пьет и скромно ест. Мы все пьяны, а он почти трезв. А ведь это не дело! Гости должны быть пьяны вровень, чтобы никто не чувствовал себя дураком. Гей, пан воевода! Пан Мнишек! Не пора ли предложить москалю отведать corda fidelium?
– Corda fidelium! – громче всех завопил Вольдемар Корецкий, к тому времени воротившийся за стол и даже ухитрившийся перебраться поближе к хозяйским почетным местам. – Подать ему corda fidelium! Пусть докажет, так ли крепка его голова и тверда рука, как он хочет это изобразить!
– Пусть докажет! – взвизгнул было и пан Тадек, однако пан Казик дернул его за рукав, и загоновый шляхтич благоразумно умолк, когда увидел, что чело пана Мнишка явственно затуманилось.