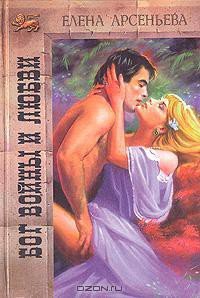Карта любви - Арсеньева Елена (книги бесплатно без онлайн .TXT) 📗
Мадам Люцина била по струнам, и хор подхватывал самую популярную в Польше со времен 1812 года песенку:
Мадам вдруг оборвала игру, резко повернулась к Юлии:
— А ты чего молчишь, Незабудка?
Та вздрогнула, пойманная на месте обычного своего преступления — задумчивости. Ответила глухо:
— Забыла слова.
— Как забыла?! — изумилась мадам Люцина. — Но ведь все помнят!
— А я забыла.
— Какая же ты после этого Незабудка, если все забываешь? — захохотала Ружа [30].
— Никакая, — сквозь зубы процедила Юлия, бросая на румяную Розу, фривольно развалившуюся в кресле, угрюмый взгляд.
— Вот именно. Ты просто Незапоминайка [31], — веселилась та.
— Надо думать, пан Шимон поспешил дать тебе это имя, — задумчиво протянула мадам Люцина. — Тебя следовало бы назвать русской дурой. Хамка, мужичка! Задаром ешь хлеб!
Гитара полетела в сторону, задев хорошенькую Фьелэк, то есть Фиалку, которая громко взвизгнула. Люцина нависла над Юлией, сидевшей на маленьком дурацком пуфике и, схватив ее за плечи, трясла, не давая встать:
— Ты мне надоела! И хорошо знаешь это! Вот уже который месяц ты ешь здесь хлеб из милости — ешь то, что зарабатывают другие девушки в поте лица своего…
— В поте своего тела, — перебила наглая Ружа, пользовавшаяся за свое усердие особым уважением мадам и знавшая, что ей все сойдет с рук.
— Вот именно! — подхватила мадам. — Все трудятся не покладая рук…
— Не сдвигая ног! — снова уточнила Ружа, поправляя розовое кружево розовой юбки, столь короткой, что ее полные ножки в розовых чулочках были открыты чуть не до колен.
Мадам невольно расхохоталась и зааплодировала: — Браво, Ружа! Ты, воистину, царица цветов.
Ружа тем временем шаловливо подмигнула Юлии, и та не смогла не улыбнуться в ответ: уже не раз бывало, что Ружа своими шуточками выводила Юлию из-под обстрела мадам. Правда, чаще всего она сама и подставляла незадачливую Незабудку, вернее, Незапоминайку, но тут же и выручала ее. Мадам, презиравшая мужчин, но любившая, чтобы (как говаривал в свои лучшие дни Шатобриан) за ее садиком поухаживала какая-нибудь яркая брюнетка, просто не могла оставаться равнодушной к прелестям черноволосой и синеглазой Ружи, которой было абсолютно безразлично, кто вдохнет ее аромат: мужчина или женщина, лишь бы платили. Правда, мадам Люцину Руже приходилось ласкать бесплатно, зато она считалась признанной фавориткой.
Собственно, мадам была всего лишь надсмотрщицей, дрессировщицей, вернее сказать, цветочницей этой клумбы, состоявшей из десятка молоденьких красоток, полек и евреек, притворявшихся польками. Юлия среди них была одна русская, но отношение к ней мадам было куда хуже, чем, например, к роскошной, ленивой Риве, которую здесь звали Пивонья, что означало Пион. Пивонье покровительствовал хозяин, пан Шимон Аскеназа: когда родители ее умерли, он привел девочку к мадам Люцине, чтобы училась ремеслу и могла зарабатывать себе «на хороший кусок хлеба», как любил говаривать пан Аскеназа. Да и всех остальных девушек приводил он: умирающих от голоду поденщиц, белошвеек, горничных — безработных сирот, выгнанных хозяевами за малую провинность, оставшихся без работы и этого самого куска. Пан Шимон являлся пред ними в самые тяжкие минуты жизни: на берегу Вислы, где бродила темноволосая Марыля (впоследствии Фьелэк), набираясь храбрости войти в реку, чтобы уже не выходить из нее; или на чердаке пустого дома, где Илена (она же Конвалия, Ландыш) надевала на шею петлю; или в грязной подворотне, где обезумевшая от голода Баська (Шаротка, то есть Эдельвейс) намеревалась за кусок хлеба отдаться первому встречному… Пан Аскеназа говорил, что его доброе сердце за версту чует чужое несчастье, чужую беду, в которой надо помочь, а потому он и появляется как раз вовремя, чтобы отвести очередную бедняжку к мадам Люцине, а там жалкая бродяжка недельку-другую блаженствовала в сытости, роскоши и безделье, если не считать обучения пению и танцам, а потом, совсем разнежась, оказывалась перед выбором: воротиться к своему первобытному состоянию или сделать самую малость — надеть красивое платье, сделать красивую прическу, принять новое красивое имя и в компании с другими красивыми девушками выйти вечером к красивым молодым людям, чтобы танцевать перед ними, изображая красивый цветок, а потом выбрать себе садовника, какой понравится. Пан Аскеназа называл свой приют для бродяжек изысканно: Театр Цветов, мадам Люцину — клумбой (роскошной или облезлой — в зависимости от настроения), а на самом деле это был самый настоящий maison de joiе [32] — обычный публичный дом с необычным антуражем. А потому, когда новенький «цветок» соглашался, ее спешно обучали несложным эротическим приемам. «Нет ничего лучше практики!» — говаривала мадам Люцина, которая для такого случая переодевалась в мужскую одежду и даже привязывала к передку искусное, выточенное из дерева и до блеска отполированное частым употреблением изображение мужского орудия средних размеров, которым, кстати сказать, избавлялись от всех преград непорочные девицы, попавшие в Театр. Ну а затем новообращенные «высаживались в клумбу», как цинично шутила многоопытная Ружа: выпускались к клиентам.
Девушки ели вволю, жили на всем готовом; им разрешали оставлять себе подарки «садовников»: хозяину шла только входная плата и плата «за услуги». И, насколько успела узнать Юлия, никто не спешил по доброй воле покинуть Театр: ведь некоторые из девушек были спасены паном Аскеназой не только от бедности, но и от полиции, и, выйди они отсюда, их ждала бы тюрьма. Как Юлию. Ведь она была самой отъявленной из отъявленных, отпетой из отпетых!
Ее искали. Она знала это со слов мадам Люцины, частенько, даже и на третий месяц после появления у них Юлии, заводившей разговоры о том, что убийца горбатого служки из церкви Ченстоховской Божьей Матери так и не найден. Доподлинно известно, что это женщина; ее даже видели возле дома: в синей амазонке, русоволосую, в компании с каким-то господином.
Произносила все это мадам Люцина, с упреком глядя на Юлию: мол, сама нагрешила, а добрейший пан Аскеназа оказался замешан! Впрочем, впрямую она ничего не говорила. Здесь вообще никто ничего не называл впрямую, недаром же бордель именовался Театром, посетители — садовниками, девки — цветочками. В обычае были следующие эвфемизмы: «обрывать лепестки» означало тут процедуру, которую мадам Люцина проделывала с девственницами, готовя их к работе; «срывать цветок удовольствия» — принимать клиента один на один; «слизывать росу» — выполнять любимую эротическую причуду мадам Люцины; «собирать букет» — предаваться ласкам втроем, вчетвером, впятером; «плести венок»… о, это было нечто, только созерцание (даже не участие в нем!) коего повергло Юлию в жесточайшую нервную горячку, едва она успела оправиться от простуды, которую подхватила, когда они вдвоем с невесть откуда взявшимся Аскеназой торопливо шли, почти бежали из дома, где остался убитый Яцек, через Подвале на улицу Широкий Дунай, обходя людные места, и дул ветер — какой ветер! Юлия привыкла видеть Варшаву городом учтивых, лукавых мужчин и прелестных, кокетливых женщин, городом улыбчивых лиц; той ноябрьской ночью она была поражена: куда же делись улыбки?! Их, точно по мановению волшебной палочки, сменили злобные, грязные, жестокие люди. Казалось, они, подобно неким чудовищам, ждали темноты, чтобы появиться и начать свершать свои черные дела. И еще казалось, что, как в сказке, все изменится с первым же криком петуха, исчезнет ужас… Но ужас и днем не исчез — он просто был теперь ярко освещен.
Яцек был порождением этого ужаса; те следы разрушений, которые видела Юлия здесь и там, и кровь, пятнавшая мостовую, и задыхающийся шепот Аскеназы, причитавшего на ходу:
30
Роза (польск.).
31
«Незабудка» по-польски и «незабудка», и «незапоминайка».
32
Дом веселья (фр.).