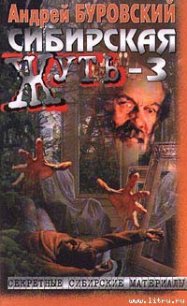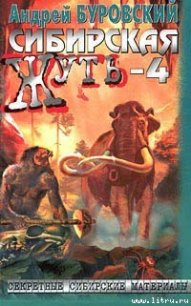Дьявольское кольцо - Буровский Андрей Михайлович (бесплатные книги полный формат .txt) 📗
Князь или хан Асиньяр оказался совсем молодой, едва за тридцать; крупный, высокий — почти под два метра, и сразу видно — очень сильный. Яркая улыбка — всеми белоснежными зубами на темно-смуглом лице, между усами и бородой. Подъехав, хан соскочил с коня, заговорил, заспорил с хорошо знакомым ему купцом — как раз из Смоленска. Умное животное само шло за хозяином и даже положило голову ему на плечо. И это само по себе сказало об Асиньяре больше, чем целая батарея психологических тестов.
Дружинники Асиньяра вовсе были с бору по сосенке — и татары, и русские, и какие-то смешанные типажи, и люди с внешностью лесных финнов, только с крестами на шее. А один, с яркой внешностью норка, заспорив с продавцом, воскликнул что-то типа «Клянусь Яхве!» Но, как видно, все были «полецкие».
Появление Асиньяра с дружиной оказало еще одно приятное воздействие — заткнулся Горбашка, только что потчевавший слушателей очередной московско-кухонной историей про зверства немецко-фашистских и монголо-татарских захватчиков, из-за которых нет на Руси теперь ни демократии, ни рыночной экономики.
И можно было уже спокойно, без этого опротивевшею рефрена, подвести итоги и понять: Польцо XV века — это маленькая империя, в которой русская культура играет роль ведущей. Пройдут века, и финны попросту христианизируются, вольются в состав русского этноса, как и большая часть тюрок. А пока — сохраняется противостояние, процесс идет на полную катушку и неизвестно, когда кончится.
Впрочем, пока что подводить итоги было рано: события откровенно продолжались — с церковного крыльца спускался столь нелюбимый Горбашкой персонаж русской истории. И был он весь словно бы «сделан» назло Горбашке: в рясе, подпоясанной кушаком, с волосами, заплетенными в косицу, с большим пузом, приземистый, коренастый. И к тому же очень простонародного, крестьянистого обличия: круглое лицо, курносый мягкий нос картошкой, голубо-серые, круглые, обманчиво наивные глаза.
Шагал батюшка размашисто, энергично, и улыбка на его добродушной физиономии застыла самая злоехидная. Улыбка исчезала на какое-то мгновение, нужное, чтобы осенить крестным знамением очередной подставленный лоб, но неизменно возвращалась сразу же, как только он делал новый шаг туда, где колыхались рога на шлемах, торчали палки с резьбой, где суетились эти, в вывернутых тулупах. Сердце Володи и Васи гулко стукнуло, потому что на пальце священника ясно было видно кольцо! По крайней мере, это было железное кольцо, очень похожее на ТО…
При появлении священника многие, толпившиеся возле шаманов с их полупонятным товаром, стремительно отпрянули, словно никогда не имели ко всему этому отношения. И не только христиане, а даже и финны с деревянными скульптурками на груди.
— Ну здравствуй, здравствуй, Кащей! — подбоченившись, начал священник, прямо адресуясь к тощему шаману, украшенному коровьими рогами и кусками шкур многих зверей. — Много ли своих безбожных снадобий наторговал? Многих ли дураков во грех ввел? Помнишь, как Василию свое перунское зелье вливал? Не помнишь ли, поганус эдакий, а сколько прожил тот Василий? А?
Шаман как будто забормотал что-то.
— Не слышу, не слышу! — помотал головой поп; и громко, на всю площадь поведал: — Два дня он прожил, верно, Кащей? Два дня прожил здоровый мужик, только два дня, и все от твоей гадости! А вы покупаете, идолы! — обратился священник к внимательно слушавшей толпе, сбивавшейся вокруг, на глазах становившейся все плотнее.
— Твои тоже умирают. Ульян! — скрипуче отозвался, наконец, тот, кого назвали Кащеем. — Никому не дано уйти от смерти!
— Не дано, ох не дано, Кащей! Истину глаголешь, в кои то веки… И одни, как помрут, отправятся в жизнь вечную, а иные… куда иные-то пойдут, а?! Что потупились, чада?! Напугались, чада, присмирели?! А богопротивные баклажки брать, идолища поганые, жертвы им приносить — это вы не присмирели?!
— Мои боги не поганые! — тонко закричал Кащей в ответ. — И травы мои не поганые! Они от живота!
— И от дурной воды, — подхватил соседний волхв, — и от ушей! И от сглаза! — неосторожно добавил первобытный жрец.
— А ты сам-то, Колоброд, не сглазишь, а?! — аки коршун налетел на него батюшка. — У Марии младенец два дня орал, все от твоего зелья! Вот он, сглаз, вот они, твои бесы, знаем мы их!
— У тебя самого глаз дурной! Я с тобой поговорю — болею! — потеряв всякую осторожность, вопил Колоброд, потрясая своей клюкой-копьем с изображением совы на конце. — От тебя от самого мои болезни!
— Ясное дело, болеешь! И будешь болеть, покуда не примешь крещения! Кто от святости болеет, не припомнишь?! Кому от священства худо? — повернулся батюшка Ульян к аудитории, и площадь недружно, без азарта, но все же зашумела, полезла в затылок, заспорила между собой, а кое-где, в лице людей особого азарта, стала щупать что-то в голенище. — А еще говоришь, что от Бога! Ты от лукавого свои дары принес! И ты мне прихожан не вводи в грех! Он вас, болванов, соблазняет, а в геенне вы, дураки, гореть будете! — снова воззвал Ульян к аудитории на площади. — Они за вас гореть не станут, ни Кащей Смертный, ни Колоброд! Вы души губите — вам и погибель!
И площадь отозвалась гулом… словно бы тихим «а-ах…». Изображение, впрочем, стало размываться, звук ослабел, почти исчез.
— Напряжение упало… энергия… — понеслось со стороны ребят, сидевших за пультом, — много жрет…
Было ярко, интересно, необычно. Да, за ярмаркой наблюдать можно было уже долго, не то что за пустой площадью с собакой и местным бродягой. А тем паче за такими событиями… Но явно «светил» перерыв. Видно было, но уже без звука и сквозь рябь, как продолжали лаяться священник и шаманы, как Ульян наскакивал на Кащея, махал руками, а тот отругивался вяло; как толпа нажимала, постепенно оттесняя группу…
Изображение померкло.
— Интересно… просто необычайно интересно, — серьезно сказал Сергеич. — Правда, насчет тлетворного влияния православия как-то непонятно остается… Придется, наверное, нам про это еще послушать. Но, вообще-то, мы ведь не очень приблизились к пониманию, кто же написал трактат… Про всехнюю теорию, так?
— Общую теорию! — не мог не буркнуть про себя Горбашка, кидая на Сергеича самые дурные взгляды, — не иначе как пытался сглазить.
— После обеда перепрограммируем условия, — любезно загомонила Таня, уже знакомая лаборантка Горбашки, — машина нас сама выведет в то место, где писали рукопись. Состав бумаги известен, машина будет искать точку, где геохимия среды будет соответствовать. В смысле, геохимия микросреды…
Обеда не готовили и пошли обедать в общую столовую. Горбашка беспрерывно трепался, что вот, сразу видно, как церковь беспрерывно давила народное творчество. Только человек придумает что-нибудь, а тут являются всякие и решают, можно этим заниматься или нельзя. Возражать Горбашке было скучно, тем паче — он все равно не слышал и не слушал. Михалыч был в плохом расположении духа; он беспрерывно жаловался и ныл, что он уже старый, что от местных котлет и пюре у него сделается геморрой и запор. А особенно он сомневался в смысле поиска рукописи по геохимии. Может, машину вынесет на целую библиотеку… кто знает, сколько их в городе… А если бумагу делали в одном месте, то и машина может показать и саму фабрику, где делают бумагу, и несколько библиотек — любых… В общем, все это непонятно.
…И на этот раз Михалыч ошибался. На этот раз на экране оказалась ветреная безлунная ночь. На экране проплыла уже знакомая площадь, церковка… Ночь на 20 августа 1484 года. Движение замедлилось на домишке справа от церкви. Тускло светилось окно — мерцающим каким-то, непривычно красноватым светом. Орали кузнечики, отчаянно квакали лягушки.
Лаборантка крутила верньеры. Камера поплыла за дом, к сарайчику, — маленькому, вросшему в землю, неприметному. Справа, в сарае побольше, кто-то шумно возился, хрупал сеном. Дверь в большой сарай была закрыта, в маленький — распахнута. В полутьме маленького сарая, в кадушке, булькала, бродила какая-то серая, кажется, вязкая масса. Поодаль на березовых чурочках стоял длинный противень длиной с деревенское, для стирки белья, корыто.