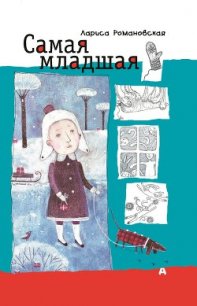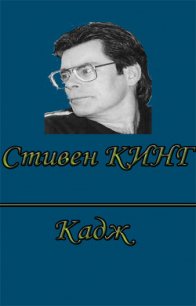Московские Сторожевые - Романовская Лариса (читать книги онлайн полностью без сокращений TXT) 📗
— Не пора, — ответила я. Знаю я, как они провожают, у меня бутылка коньяка всего одна, а Евдокии на работу потом. В таком-то состоянии.
— Немножко уже осталось, Афонь. В пятнадцать пятьдесят восемь заход, — утешила его Жека. Ей не столько выпить хотелось, сколько поесть. У нас на солнцестояние принято себя в строгости держать, не то чтобы поститься, но как-то так. Любовные утехи, например, лучше не надо. Ну мне-то такое сейчас не сдалось, а Евдокия, кажется, недовольна. Забурчала опять с середины песни:
— Не так поешь, — крякнул Афанасий, — все спутала, непутевая.
Жека отмахнулась, Фоня выдохнул и подтянул густым, корабельно-штурманским басом, хотя моряком не был ни в одной жизни. Красиво у них на два голоса вышло. Прям как картинка сложилась — про драку в таверне. Интересно, а в «Марселе», на стоянке, когда в Гунечку стреляли, похоже было? Надо об этом Дорку порасспрашивать, она хорошо такие вещи рассказыва…ла.
Клаксон курлыкнул из коридора, прошуршал крыльями, описывая круг над нашим забарахленным столом.
— Афонь, надо Ленке в коридоре абажур укрепить, а то ее кот несчастный там разнесет все на фиг.
— Ну давай, что ли, — Фоня покосился на часы. — Порежь там пока, чего есть. Сыра, булки белой. Лен, чего у тебя есть?
— Конфеты вроде. Съешьте их все, ладно?
— Ну что, девоньки, с новым солнышком вас, что ли? Так получается?
— Получается, — кивнула я. Будь моя воля, я б с третьего тоста начала, за Дорку. Который «…помним». Тяжелый он…
Чем больше жизней живешь — тем дольше молчание длится. Сколько наших в памяти перебрать надо за это время. Ни пальцев не хватит, ни бусин стеклярусных. Мирские барышни бусики на торжественные праздники так надевают, полюбоваться, а у нас они вроде веревочки с узелками. Ну по крайней мере помогают не забыть. У Евдокии вон сейчас на шее сразу три висюльки болтаются, надо бы одну одолжить, не хочу я в комнату идти.
— Куть-кутя… Клаксонечка, иди сюда, мой махонький! — Жека на секунду сгребла остро отточенные пальцы в кулак, мягко их выпустила наружу и начала подзывать крылатика к себе: — Кутъ-кутъ… Ленусь, я его учешу немножко, ладно? — Она клацнула бутылкой об стол, словно призвала меня и Фоню к давно начавшейся тишине.
Я кивнула: коньяк был недурен, по крайней мере, на запах, который расплескался по кухне мягче, чем сам напиток по стенкам округлой рюмки. Фоня поднес к носу пробку, благородно вдохнул, подгоняя аромат ладонью. Клаксон на Жекины умуркивания отзывался с неохотой — уж больно ему нравилось лежать вокруг намертво вмурованного в цепь абажура. Потом вот встрепенулся, стек по люстре огромной рыжей каплей, приземлился на все четыре лапы. И зашагал к Жеке. Сперва по линолеуму, а потом и по столу. Словно объезжал осторожно наши рюмки и побрякушки. Подобранные крылья сейчас напоминали аккуратно сплетенные между собой перчатки. Усы у крылатика мелко дрожали: видимо, табачный дым пришелся не по нутру.
— Горе ты мое маленькое, дурак мой рыженький, — зажалобила вдруг Евдокия, поднося рюмку к кошачьему носу.
Клаксон кратко взмявкнул, лакнул коньяк и отодвинулся. Жека, кажется, решила настоять…
— Дуся, не порть мне породу! — Я оттянула крылатика от алкоголя, приладила ладонь, чтобы как следует его учесать. Мелко, под горлышком… как Дорка… учила.
— Рыженький ты мой, — снова произнесла Жека, но уже без алкогольной тоски, а с четкими, горькими интонациями: — Рыжий, весь в маму…
Доркина Цирля — черная в прозелень, даже на кончиках крыльев рыжины не наблюдалось. А вот сама Дорка, кошавкина мама, если не седела раньше времени, то как раз мало отличалась по цвету, то есть по окрасу от мандаринового Клаксона.
Сейчас крылатик все прекрасно почуял. Развернулся обратно к рюмке, зашуршал языком: махнул поминальное залпом. Произнес свое «Уфр!» жестче нашего «Помним!» и взлетел одним махом — словно подкинули — на плечо к Евдокии. Угнездился как следует, даже хвост вокруг шеи обернул. Меня-то он никогда так не обхаживал.
Жека благодарно вздохнула, сунула Клаксончику вскрытую конфету из коробки: шоколадное донце скусано, а начинка вся открыта. Не то вишневый ликер там, не то абрикосовый. Нельзя мне такое, а маленькому крылатику он полезный.
— А знаешь, — улыбнулась вдруг Жека, — Гунька с Цирлей сторговался. За мыша.
Я вспомнила черного лабораторного питомца из Инкубатора. Неужели тот самый? Оказывается, да. Гунька ему даже кличку придумал, хотя вроде не полагалось. Павлик же сам, пока ученик, под кличкой ходит.
— Ему Старый разрешил. За словленную пулю и воскрешение, — пояснила Евдокия.
От этих щедрот, оказывается, и морскому мышику перепало. Кличку, впрочем, Жека не помнила, ей про другое было интересно.
— Ну вот он с Цирлей и договорился. Чин по чину, чтоб она мыша не трогала, пока они все вместе у Старого живут.
— Это на крылаточьем, что ли? — встрепенулся Фоня, отлепив с причмокиванием наушник. Я услышала полфразы, поморщилась: «А в ресницах спит печаль, ничего теперь не надо вам, ничего теперь не…» Поминальная песня какая. Вообще Вертинский хороший, если вовремя. Но Дорка-то его в первую очередь ценила за то, что киевлянин. А Фоня с ним вообще кокаинил когда-то, аккурат сто лет назад.
— Да вроде да. Афонь, ты представляешь, он с людьми после своего молчания говорит через раз, со мной не здоровается, а крылатку, как миленькую, уболтал. А когда Доркина Рахеля из питомника звонила, он кошавок по телефону диагностировал!
— Это как? Он же мирской! — изумилась я.
У нас такие вещи не то чтобы сильно в редкость, но… Они как абсолютный музыкальный слух или художественная одаренность — встречаются нечасто и от рождения, про это всем сразу становится известно. Маленькую ведьмочку или ведуна с такими особенностями задолго до посвящения всем представляют, вводят в круг. На несерьезные мероприятия всегда прихватывают, навроде украшения. Будь у Гуньки такая особенность раньше — мы бы знали. Может, Старый в курсе сразу был? Потому на мальчишку именно обет молчания наложил? Красивая версия, но не подходит: Гунька мирской. А что тогда? Афоня молчал, Дуська тоже.
— Может, яблоки? — неуверенно спросила я. Не могла я больше про Дорку молчать, а про что говорить — не знала.
— А чего яблоки? — не сразу сообразила придреманная крылатиком Жека. — Ему что, сердце яблочное растили?
— Ну да. Оно еще приживалось долго, Тимофей недоумевал.
— Тогда понятно… Наверное, — неуверенно кивнула Жека. У нее сердце никогда не заменяли. Даже после расстрела. Тогда пуля в висок вошла. А время военное, мука по карточкам, дрожжи так вообще… Хорошую закваску для мозгов трудно было сделать. Потому, наверное, следующая жизнь, кинозвезды Лындиной, у нее так легко и прошла?
— Ленусь, мы поедем, наверное, ладно? Не сердись, но сил никаких нету.
Афоня уши плеером утеплил и тоже с табуретки поднялся: тяжелые у нас сутки были впереди. С этими встречами да с солнцестоянием. Непраздничный праздник.
Крыльцо у магазина грязное, запорошенное еще вчерашним, несвежим снегом. Ступеньки — бетонные, ребристые, щербатые — сейчас кажутся почти округлыми из-за намерзшего жирного льда. Карабкаться по ним опасно. Но девочка все равно упорно лезет, хватаясь за кривые перекладины перил и не обращая внимания на материнский рык. Все лезет, и лезет, и летит кубарем, едва не задев веснушчатым носом коварную наледь. Размазывает по куртке снег и грязь и вновь начинает свой путь. Мать упрочняет крик, почти визжит заполошно: