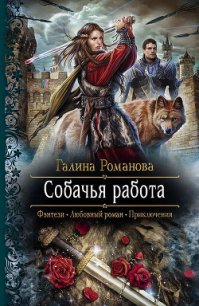Старое кладбище - Романова Марьяна (книги онлайн без регистрации полностью txt) 📗
Может быть, это была его неосознанная тактика, так нарушить чужое пространство, чтобы человек сдался, лишь бы на свободу вырваться.
– С самого детства, – почти шептал он. – Я в первом классе учился, когда началось. Дед у меня умер, я переживал очень. Единственный близкий человек. Отец от нас ушел, мать вся в работе, дедушка меня фактически и вырастил. И вот его не стало, я не знал, как жить дальше. На похороны меня не взяли даже, боялись, что в могилу прыгну. И вот на девятый день после похорон ложусь я спать и чувствую, что кто-то на краешек кровати моей садится. Открываю глаза – фигура темная, различимая на фоне окна. Почему-то не испугался я совсем. И сразу узнал его. Дедушка. Мне семь лет было, в голове-то путаница, совсем не смутило меня, что дед умер. Главное, вот же он, в комнате моей сидит, смотрит на меня. Правда, черт лица не разглядеть было. Но он руку протянул и по голове меня погладил – это точно было именно дедово прикосновение. Странно, что от него ничем не пахло. От деда табаком обычно несло, а последние годы – лекарствами. Мне казался этот запах приятным – аптека и сигареты. Я так обрадовался, вскочил, маму позвать хотел, но дед пальцем к губам моим прикоснулся – молчи, мол. И я принял игру, это был мой секрет. Наш с ним. Дед сказал, что не может оставить меня тут одного и что он решил не идти дальше, побыть пока со мной. И чтобы каждый понедельник я пораньше спать шел, тогда он меня навещать сможет. Я спросил: «А почему только по понедельникам, дед?» А он промолчал, только вздохнул грустно.
– Такое часто бывает, – кивнул я. – Чужая привязанность может удержать мертвого на земле. Это не очень хорошо – ни для живых, ни для покойных.
– Теперь я и сам понимаю, – вздохнул Александр, – но тогда обрадовался. Мать моя даже обижалась – вроде деда любил, а забыл так быстро. Рассказывала по телефону подругам своим: вот что значит память детская, мол, и я, если помру, на могилку не придет поплакать даже. Потому что когда на сорок дней поминки устраивали, я отказался за стол пойти. Все плакали по деду, а мне что переживать – он по-прежнему со мною был. И вот он приходить ко мне начал, каждый понедельник, как и обещал. Конечно, это было совсем не то, как если бы он был жив. Дед просто сидел рядом, смотрел на меня, молчал. Я спрашивал о чем-то, он иногда отвечал, но так глухо, тихо, как будто бы ветер воет в легких, и не поймешь ничего. Спрашиваю: тебе грустно, дед? Он шелестит: тебе не понять мою грусть. Спрашиваю: а не страшно там? Страшно! – говорит, но не объясняет ничего. Но все равно это было лучше, чем его отсутствие… Правда, после его визитов я потом весь день разбитый ходил, как будто бы и не спал вовсе. Хотя он надолго никогда не задерживался – полчаса посидит, и всё. Как будто в темноте растворяется.
– А потом тебе перестало это нравиться, – догадался я. – Тебе надоело, что он приходит. Но отвязаться ты уже не мог.
– Да, – грустно кивнул Александр. – Так и было. И видеть я его почти перестал, только чувствовал. И он больше не пытался меня утешать, перестал быть ласковым. Я почему-то точно знал, что теперь он приходит не для того, чтобы меня поддержать, а чтобы продержаться самому. Что это он без меня теперь не может, а не я без него. Года два или даже три так прошло. И я однажды сказал ему: дед, хватит. Не приходи больше, покойся с миром… И он так осерчал, что меня едва на тот свет к себе не утянул. Взвился под потолок, надулся как жаба, на всю комнату расширился, всё пространство занял, воздух весь выпил. А потом навалился на меня этакой черной массой, на грудь мне. Душить меня начал. Я кричать пытался, но дед так крепко горло мне сдавил, что ни звука не вырывалось, только свист. Так я сознание и потерял, думал, что умер. Но утром мать меня разбудила. Ахнула – оказалось, у меня температура под сорок. Неделю болел… Да так и не отвязался от деда. С годами я его даже ненавидеть начал. Это был уже не тот дедушка, которого я знал и любил. Это было что-то чужое и мертвое.
– Обычная история, – усмехнулся я. – Многие сильно тоскуют по своим мертвецам, так сильно, что готовы пойти на всё, чтобы их удержать хоть в какой-никакой форме. Но эти люди не понимают – то, что они удерживают, уже ничего общего не имеет с их любимыми. Мертвяк может форму знакомую принять, но отношений теплых с ним не получится, не способны они на такое. Ходят истории, что мертвые будто бы защищают оставшихся. Это бред, фантазии и плацебо. Мертвяк только для того и может вернуться, чтобы испить тебя. Нет у него других причин, только за этим его пригласить и можно. А некоторые мертвяки-шатуны еще и своих потом приводят.
Александр странно дернулся, зрачки его расширились, глаза почернели, как у беса.
– Вы как будто мысли мои читаете, – пробормотал он. – Недавно дед не один приходить начал. Каждый понедельник это случается, не могу больше так. Сам приходит, и какие-то тени с ним. И кажется мне, всё больше и больше их с каждым разом. А мне от этого всё хуже, потом иногда с постели встать не могу. И не расскажешь никому – решат, что сумасшедший. И тут знакомый о вас рассказывает, и я понимаю – вот он, выход. Я должен увидеть, кого приводит ко мне дед, и выяснить – зачем?
– Мне кажется, я уже ясно ответил на ваш вопрос, – нахмурился я. – Зачем вам это знать, зачем кого-то видеть? Поверьте мне, будет только хуже. Лучше пригласите меня, я их прогоню. Больше вас дед не потревожит. Хотя было бы неправильно называть то, что к вам приходит, вашим дедом. Это уже давно не так.
Но Александр настаивал – упёрся как баран. Может быть, уже был вымотан настолько, что утерял возможность оценивать то, что с ним происходит, логически. Да и какая логика, если к тебе по ночам приходит мертвый дед, а в твоей медицинской карточке при этом нет диагноза «шизофрения». Не слышал меня, не хотел слышать.
В тот день я, конечно, решительно ему отказал – попросил подумать. Мне было и немного жаль его, такого потерянного, расплывшегося, как клякса, готового утонуть, и неприятно общаться с ним. За месяцы, проведенные в Москве, я вообще понял, что испытываю больше брезгливости, чем жалости к чужому нежеланию выплыть. Я был твердо уверен, что любой человек в состоянии найти внутренние силы, чтобы выкарабкаться из любой ситуации.
Мы встречались еще несколько раз. И почти каждый день он звонил мне – я даже был вынужден поставить определитель номера, его нытье начало утомлять. И однажды он, что называется, «попал в настроение» – я был утомлен, раздражен и расфокусирован настолько, что позволил себе даже выпить бокал красного сухого вина, чего со мною почти никогда не случалось. Я знал, что алкоголь – любой, даже невинный стакан пива в жару – отнимает силы и закрывает заветную форточку в космос. Как и слишком сытная жирная еда, как и озабоченность миром материи, как и зацикленность на собственных эмоциональных перепадах.
И вот он позвонил, и я в сердцах крикнул: «Да и черт с тобой! Не хочешь делать, как я говорю, – будь по-твоему!» Продиктовал ему адрес, и через полчаса он уже сидел у меня на кухне, сопел в чашку предложенного чаю и нервно потел в ожидании моих рецептов и указаний.
Это был первый и последний раз, когда я кого-то чему-то научил. Я точно знал, что Александр этот не потянет, нет у него редкого темного дара переплывать Стикс и возвращаться сухим, один шаг на сторону смерти утянет его туда, откуда возврата нет. И судя по тому, что больше в моем доме он не появился и номер мой не набирал, я оказался прав. Наверное, из его близких никто и не понял ничего – для всех он просто тихо умер во сне, ночью с понедельника на вторник. Я точно знал, что случится именно так, и, по сути, я стал его палачом.
Но никаких угрызений совести я не испытывал. Только естественную досаду, которую вызывает чужая принципиальная глупость.
Моя этическая система координат была взращена Колдуном и весьма отличалась от общепринятой. То, чему я научился за четыре года жизни в лесном доме – брать полную ответственность за всё, что происходит в моей жизни, никогда не искать прямо и косвенно виноватых, не жалеть себя вместо того, чтобы искать причину и выводить формулу безупречности, и – что самое важное – внутренне не иметь отношения к чужому выбору и чужой судьбе, – казалось бы, так естественно. Но многие, да что уж там, почти все люди слишком много места отводят своей персоне в жизни и мотивах окружающих. Кто-то годами носит на плечах сизифов камень вины за чью-нибудь покатившуюся под откос жизнь. Кто-то потакает чужому, явно губительному выбору – из жалости ли, из страха ли потерять дружбу? Кто-то, напротив, всегда знает, «как лучше», давит и душит этим знанием всех, кто под руку попадется, – некоторые из этих особей еще и авторитетно звучат, их уверенность заражает и порождает сомнения. Это такие поводыри в личный внутренний ад. Подобная погруженность в чужие переживания и первопричины – это такой особенный сорт эгоизма. Гаденький, надо сказать, сорт, потому что попахивает лицемерием и умело маскируется под желание сделать мир лучше.