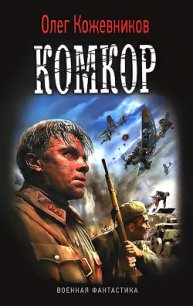Мёртвый хватает живого (СИ) - Чувакин Олег Анатольевич (читать книги онлайн .TXT) 📗
На следующий день он уехал. Из багажа взял два чемодана с одеждой, 8-томное собрание Чехова и справочники. Он уехал в Тюмень, и Клара не провожала его (он сам велел не провожать, чтобы не реветь в поезде и чтобы девочки не запомнили его лицо в окне поезда и не мучились бы позднее от воспоминания), а неделей позже переехал и институт: с документацией по исследованиям и со списанным оборудованием. Из научных сотрудников института остался он один; в Тюмени пришлось искать и нанимать вирусолога и всех прочих; с ним покинул Москву, точнее, Подмосковье, только Максим Алексеевич. Всего по штату «Сибирскому институту промышленной очистки воздуха» полагалось шесть человек, включая самого доктора. Это объяснил ему прилетевший из Москвы в Тюмень бизнес-классом миннаучный чиновник, Даниил Кимович, назначенный для урегулирования вопросов финансовой организации института.
Вселившись в квартиру N4 двухэтажного неблагоустроенного дома по 2-й Луговой, Владимир Анатольевич (а преимущественно Максим Алексеевич) следил за перестройкой подвала по плану и по миннаучной жалкой смете, а вечерами перечитывал любимого Чехова. Антона Павловича доктор считал не только выдающимся мастером слова, но и очень точным выразителем той мещанской жизни, что захватила и поглотила Клару, Сашу и Женю.
И ведь как умно и точно возражала ему Клара! Откладывая том Чехова, доктор поражался, как умело она использовала против него его же аргументы: и о приспосабливании, и о… Кстати, тема приспосабливания с первых дней нашла в лице дмитровского завхоза Клары Барышниковой благодарного слушателя. На этой-то теме они, пожалуй, и сошлись. Как не сойтись? Сам Президент выписывает доктору наук ордер на четырёхкомнатную квартиру в Москве. Любила ли она его? Можно ли ответить на этот вопрос, не зная, что такое любовь, и не умея её определить? Что она? Страсть? Животная — или какая-то иная, не та, что… у бегемотов? Инстинкт размножения — или нечто большее, имеющее связь с тем духовным, о котором сочиняют книги идеалисты? Или это особенное чувство, о котором пишут стихи романтики — от чьих стихов любовь не стала определённое и понятнее? Или она — то чувство, что охватывает двоих единомышленников, то есть что-то вроде дружбы, добавочно упрочённой постелью, страстными утехами, — или тех, кто мнит себя единомышленниками, как вот он мнил себя и Клару? Два приспособленца, один из которых вдруг понял, что куда более идеалист, чем реалист и материалист, а второй так и остался приспособленцем. И кто, в таком случае, кого обманывал? Да никто. И Клара права. И девочки правы. Им будет лучше в Москве. Тысячи и тысячи супругов разводятся из-за того, что по-разному приспосабливаются к жизни — и к своей любимой половинке как к существенной части этой жизни.
В этом, стало быть, соль семейного вопроса, по крайней мере, его, Таволги, вопроса, — а не в любви, искать корни которой было слишком утомительно — почти так же, как искать секрет таланта, о котором врач и атеист Чехов сказал: «А талант — и всё тут».
Новый институт постепенно захватил Владимира Анатольевича. Нет рядом с ним Клары, нет Саши и Жени, но есть наука. Есть мечта о светлом будущем. Кое-чего ведь на пути к мечте он добился. Доктор понял: он тем больше верит в свой успех, чем хуже условия, в которых он успеха будет добиваться. Упрямство? Ослиное? Пусть так, пусть упрямство, и пусть идеализм, пусть особенная, фантастическая цель в жизни, цель, несоизмеримая с обывательскими стремлениями к московской жилплощади, лакированной мебели, шведским машинам и дачам с каминами, и пусть он умрёт, так и не достигнув этой цели, — он всё же будет заниматься своей работой до тех пор, пока силы его не кончатся или пока Миннауки не упрячет его в тюрьму за растрату казённых средств и одурачивание Президента. За возведение научной пирамиды.
Позже, когда он уже жил с Любой, он усвоил несколько семейных пунктов, в том числе разъяснённых ему и Любой: во-первых, для женщины естественно дорожить жизнью детей и заботиться об их будущем, мужчины этого часто не понимают, мужчины понимают многое, но не это, общественная эволюция увела от них это понимание, оставив его женщине, матери, — а квартира в Москве и есть будущее девочек; во-вторых, инстинкт самосохранения у большинства людей сильнее призрачной любви, а у заместителя директора по АХО этот инстинкт должен быть гипертрофирован; в-третьих, Владимир и сам сделал карьеру в Москве, а не в Тюмени — почему же он считает, что девочки и жена должны непременно веровать в Тюмень — столицу деревень?
Он согласился с Любой. Он сказал ей лишь одно. В оправдание. Кто бы мог думать, что так повернётся с Москвой! Все мы привыкаем к своему положению, сказал он. И начинаем верить, что это положение сохранится до конца нашей жизни, по меньшей мере, до пенсии, когда мы отдохнём от трудов праведных за ловлей рыбы или пропалывая грядки с редиской, репой и луком и покряхтывая от поясничного остеохондроза.
Да, ответила Люба. Кто бы мог подумать. Будь ты завхозом, ответственным за вещи и деньги, ты бы научился предчувствовать грозу. Но ты учёный — ты ставил опыты. Интуиция твоя направлена на иное. Ты работал, думая, что конец работы там, где реализуется идея работы, а не там, где тебя остановят. Но тебя остановили. И тебе сказали: э, да ты, батенька, настоящий учёный, и поэтому обойдёшься без жены, детей, московской прописки и президентского покровительства.
И ты и обходишься, закончила Люба.
Мне лучше плыть против течения, ответил он ей.
В сущности, думал Владимир Анатольевич, все они — и Клара, и Саша с Женей, и чиновники из Миннауки, и Президент, и те сотрудники, что в последние месяцы, когда всем стало ясно, что проект вот-вот закроют и их переведут в другие институты, и даже и те сотрудники (исключая Любу), которых он нанял здесь, в Тюмени, — все они своим маловерием лишь возбуждали его упрямство. Вопреки! «Не верите в то, что я создам пентаксин? Не верите, будто газовая оболочка возможна? Не верите, что вне московского комфорта вообще можно что-то открыть или разработать? Не верите, наконец, что вирус абсорбируется на клетке человека? Ах, вы не верите?… Ну, так я сделаю так, что пентавирус будет жить долго и что действующая версия пентаксина будет разработана здесь, в столице деревень, в этом ветхом домишке, — вопреки всем вам, сомневающимся и нетерпеливым, и наперекор всем тем, кто предпочитает плыть по течению, переквалифицируясь сообразно с обстоятельствами из учёных в завхозов!»
И утром, вечером, ночью доктор словно бы молился словами отца: «Тебе будет казаться, что ты несчастен. Что твоя дорога слишком трудна и горька. Что у тебя ничего не получается. Что весь мир вокруг словно сговорился против тебя. Знаешь, что это значит? Это значит: ты на правильном пути».
— Холодно, — сказал Владимир Анатольевич. — Надо пройтись.
Он застегнул пуговицу, сунул руки в карманы и пошёл к широкой центральной аллее, где сидела ночная публика. Где горели матовые шары фонарей. И откуда неслись пьяненькие голоса. Ему хотелось, чтобы его видели. Неизвестный вирусный король прогуливается поздним вечером по Цветному бульвару…
Поначалу, ложась спать в квартире номер четыре, Владимир Анатольевич долго не мог заснуть. Всё представлял Клару и дочерей. Чаще Клару. Что скажет она и что скажут девочки, когда он позвонит им и скажет: я сделал это? Сделал! Проект секретен, но он нарушит секретность, ему будет плевать на всё, и он скажет Кларе: я сделал это. Но… столько лет, ответит она. Пустяки, скажет он. Я сделал, и меня снова переводят в Москву, и дают квартиру, и гараж, и «Вольво», и шофёра, и огромный институт в Дмитрове-36, и молодую заместительницу по АХО. Молодую, с ногами от шеи, блондинку… кажется, «Мисс Оборонная Промышленность». Но я хочу прежнюю мою заместительницу… И Клара ответит согласием — ведь теперь её и его идеалы опять совпадают, теперь они оба опять говорят на одну тему: Москвы, денег и испанской сантехники. Но потом, усмехнувшись, он скажет ей: я не хочу прошлого, Клара, я хочу настоящего, а настоящее моё не с тобой. Тебе я предпочту длинноногую мисс с дипломированной грудью… Владимир Анатольевич, с томиком Чехова на груди, открытым на «Ариадне», просыпался. Была ночь, но он спускался в подвал, в свой кабинет или в лабораторию, — и продолжал упрямо — да, да, да, упрямо, — делать то, что делал многие годы и что не давало результатов.