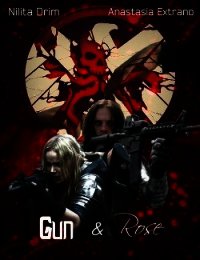По ту сторону безмолвия - Кэрролл Джонатан (мир книг TXT) 📗
Другое дело Линкольн. На самом деле я впервые жил в одном доме с ребенком, и меня непрерывно ошеломляли его присутствие и особенности его восприятия. Люди вечно рассуждают о том, насколько по-разному видят мир мужчины и женщины и как странно, что мы, тем не менее, как-то ладим. Наблюдение, конечно, правильное, но еще более невероятно, как удается сосуществовать в одной лодке взрослым и детям. Дети чувствуют себя в жизни более уютно, мы — больше знаем о ней. И все при этом убеждены, что другая сторона видит мир неправильно и зачастую нелепо.
— Макс, какой жуткий сон мне сегодня приснился! За мной по улице гнались какие-то парни с большими мешками с солью. Поймали меня и сказали, что заставят опустить туда пальцы. И заставили!
Линкольн откинулся на стуле, удовлетворенный. Нет ничего хуже, чем сунуть руку в мешок с солью. Выражение его лица словно бы говорило: «Если ты в здравом уме, то поймешь, как это ужасно и какое испытание я выдержал, уже просто уцелев после такой ночи». Взрослый почувствовал бы себя глупо, рассказав такой сон. А Линкольна он потряс. Делясь им, он преподносил мне дары, которыми был наделен от рождения, — свои страх и изумление. Такие вещи — не пустяк. Когда дети рассказывают вам такое, умиляться неуместно. Мне полагалось не только выслушать, но и понять. Линкольн высоко поставил планку. Если я собираюсь жить с ними и делить с ним его мать и его жизнь, я буду подвергаться постоянной проверке, пока он не придет к какому-то выводу. Мне права голоса не давали. Не могло быть и частичного успеха. Триумф или провал. И единственным судьей будет мальчик.
Однако по большей части общество Линкольна доставляло мне истинное наслаждение. Почти каждое утро я отводил его в школу. Мы говорили обо всем на свете, и он знал, что мне можно задавать любые вопросы, особенно на всякие мужские темы. В результате я как-то однажды обнаружил, что стою, прислонясь к почтовому ящику, и делаю быстрый набросок влагалища, который мальчик взял, но тут же запихнул в задний карман. «Ты не против, если я посмотрю попозже? Я вроде как стесняюсь». Однажды, когда мы ехали в машине, Линкольн понюхал себя под мышкой, потом еще раз, и сказал: «От меня начинает пахнуть, как от мужчины». Он хотел знать все о моей семье, о моих прежних подружках, о том, каким я был в юности. Признался, что его не очень-то любят в школе, потому что он нетерпелив и слишком любит командовать. Я согласился, что он любит командовать, но притом он интересная личность, значит, незаурядность уравновешивает этот недостаток. Лили сказала, что мальчик попросил мою фотографию, чтобы носить в бумажнике, но велел мне не говорить. Мы втроем ездили в Диснейленд, в аквапарк, ходили на матчи по рестлингу. Есть фото, где Гвоздила Фрэнк Корниш держит совершенно одуревшего от счастья Линкольна Аарона над головой, словно собираясь зашвырнуть мальчишку в зрительный зал, ряд этак в десятый. На следующем снимке, увеличенном до размеров плаката и висящем на стене его комнаты, Линкольн стоит, победоносно поставив ногу на грудь поверженного великана. Мы ели гамбургеры и играли в видеоигры, когда ему давно полагалось ложиться спать. Мы читали ему книжки по очереди с Лили. Одним из неожиданных плюсов стал непрерывный поток новых идей для «Скрепки», которые подбрасывали мне они оба. Люди часто спрашивали, где я беру идеи для сериала. Обычно я мямлил что-то остроумное, вроде «они просто приходят сами». Но теперь я мог честно ответить: «От тех, с кем я живу». В комиксы вошел сон про соль. Вошла привычка Лили при любых обстоятельствах рывком выныривать из сна, просыпаясь. Доверчивость и ожидание чуда, с которым Линкольн молится на ночь. Моя жизнь стала сложнее и в некоторых отношениях труднее, но вместе с тем гораздо полней и интересней. Интересней — вот верное слово. Когда живешь вместе с кем-то, никогда по-настоящему не знаешь, что будет дальше. Новые звуки, движение, жизнь. Отворяется после уроков в школе дверь, или звонит телефон — и вот они готовы рассказать тебе такое, что может перевернуть весь день вверх дном или увеличить его громкость до тысячи чудесных децибел. Само их присутствие меняет весь рельеф.
Доведенная до крайности, эта непредсказуемость может свести с ума, но со мной такого не случилось. Совсем наоборот. Лишь прожив с ними вместе несколько недель, я понял, что до встречи с Ааронами моя жизнь была настолько однообразной и скучной, что я мог бы ехать по этой прямой и плоской дороге с закрытыми глазами. Еще того хуже: если на ней все же встречался какой-то ухаб или изгиб, я нервничал и брюзжал. Как смеет существование сегодня отличаться от вчерашнего! Очевидно, эта монотонность была нездоровой и творчески бесплодной. А затем настал момент, когда я вошел в дверь их дома и претерпел ПОЛНУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ. Встреча с этой женщиной и ребенком столкнула меня со старой колеи на новую почву. Там жизнь оказалась не легче, но богаче. Гораздо богаче.
Линкольн был помешан на бейсболе. В детстве я тоже бредил бейсболом, так что тут между нами царило полное единодушие. Разница между нами заключалась в том, что я сходил с ума по божествам из взрослой лиги — кто играл в какой команде, у кого какая средняя сумма очков на подаче, — в то время как Линкольну нравилось просто играть. Для него сходить на игру «Лос-Анджелес Доджерс» было здорово, но отправиться в парк и ловить мяч или тренироваться в высоких и низких подачах — ни с чем не сравнимое удовольствие. Он глубоко верил в спорт. Там за один день складываются репутации, благоговение и полное фиаско всегда бродят где-то неподалеку. В спорте, особенно для детей, замечательно то, что там все однозначно черно-белое: если победил — хорошо, проиграл — плохо.
Линкольн играл в детской команде и тренировался два раза в неделю на школьной площадке в двух кварталах от нашего дома. В эти дни я старался как можно раньше закончить работу, затем брал Кобба на длинный поводок и мы вдвоем шли посмотреть, как играет наш друг. Придя на место, пес садился рядом со мной на нижней скамье для зрителей, словно сфинкс с собачьей головой. Когда он уставал, то слезал и укладывался на бок на солнышке. Я наслаждаюсь воспоминаниями об этих днях. Именно тогда я острее всего чувствовал себя отцом Линкольна. Приходить, смотреть, как он играет, идти потом вместе домой и разговаривать о том, как у него получалось, — все это создавало у меня чувство крепкой и прочной связи с ним. Мы думали только о бейсболе. Оба мы слушали и тщательно обдумывали то, что говорил другой.
Разумеется, один из его заклятых врагов был в той же команде. Разумеется, мальчишка играл лучше Линкольна. Энди Шнайдер. Я все еще вижу, как Линкольн презрительно кривит губы, произнося фамилию Энди, словно это название редкой болезни и грязное словцо одновременно.
Когда это случилось, я размышлял о том, что приготовить на ужин. Кобб растянулся на земле, наблюдая за пчелой, жужжащей возле его головы. Линкольн играл шорт-стоп и колотил по своей перчатке в ожидании мяча, что слетит с биты Энди Шнайдера.
— Бей, мразь!
Голос Линкольна? Я поднял голову. Плохо, если так. Он может ненавидеть Шнайдера, но изводить его таким образом — поведение недостойное, и я скажу ему об этом, как только…
БАЦ!
Энди ударил так сильно, что звук мяча, угодившего во что-то твердое, раздался спустя всего миг после того, как он расстался с битой. Раздался, когда мяч ударил Линкольна в лицо. Линкольн упал как подкошенный.
Я соскочил с трибуны и бросился на поле, думая только о том, чтобы добежать до него. Мальчик лежал, бессильно обмякнув, прикрыв локтем голову. Херб Скор. Вот первое, что пришло мне в голову. Когда я был маленьким, Херб Скор был знаменитым питчером из «Кливленд Индиане». Мяч попал ему в лицо и едва не убил наповал.
Крови не было видно. Я наклонился и осторожно отвел руку Линкольна, чтобы посмотреть.
— Матерь Божия!
Правый висок уже вздулся. Очевидно, за мгновение до удара Линкольн успел повернуть голову, иначе мяч угодил бы ему прямо в лицо. Но висок распухал так быстро, что гематома была уже размером с мяч для гольфа, отвратительного багрово-синего цвета. Глаза мальчика были закрыты. Он не шевелился.