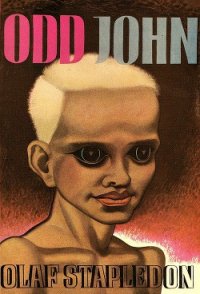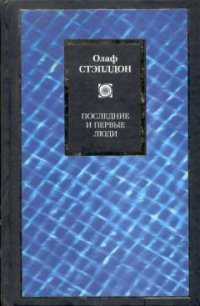Из смерти в жизнь - Стэплдон Олаф (библиотека электронных книг TXT) 📗
Короче говоря, именно он (как ему казалось) был для них светочем, а порой — манящим в трясину огоньком, он вынуждал их измышлять, а потом отвергать иллюзию за иллюзией. Да, все это делал он, дух человеческий, хотя и был не более, как этими самыми малыми своими членами, на высотах прозрения объединявшимися в союз умов.
Эдем и падение
Через десять тысяч веков после рождения из чрева получеловека, в полном расцвете своего детства, когда поколения охотников, рыбаков, собирателей плодов и трав, кочевых пастухов, а затем и оседлых земледельцев, сыграли свою роль в создании длинного гобелена первой культуры… тогда, ах, тогда настал счастливый век! Дух человеческий помнил, что в те времена он горел ясным и ровным огоньком в каждом сердце, питаясь крепким, хотя лишь наполовину осознанным обычаем рассудка и дружелюбия. Люди жили в райском саду — и в невинности. Не было войн, и насилие человека над человеком бывало лишь безумием одиночек. Семьи охотников и пастухов, общины земледельцев, объединялись общей целью и трудовым товариществом. Каждая семья была крепкой командой, конечно, тревожимой спорами и ревностью, но скрепленной корнями взаимного приятия — и эти корни уходили куда глубже, чем корни временных экипажей корабля или самолета. Благодаря этой цельности социальной ткани человечества, то время было светлой эпохой, освященной в преданиях под именем Золотого Века. Дух человеческий, оглядываясь назад из нашего мучительного века, рисовал в памяти давнее благоденствие своих членов — и вздыхал. Венцом этой блаженной эры стали первые города, расположившиеся каждый среди своих широких нив и заронившие семена нового изящества и тонкости ума. Все они были безоружны. И владыки, и короли были лишь первыми среди братьев. Каждый человек заботился обо всех.
Но понемногу разбухшие города возжаждали новых земель, стали соперничать в роскоши, и тогда возникли империи, связанные силой оружия. И часто далекие варварские племена, алчущие богатства и власти, низвергали целые цивилизации. А между тем множество крестьянских хозяйств, где ранее трудились свободные общинники, сплавлялись в огромные поместья, и их хозяева принуждали к труду в них толпы рабов.
Дух человеческий, вспоминая эту стадию своего детства, видел, что тогда он впервые ошибся. Тайный яд проник в его плоть и зародил тлеющую раковую опухоль, которая терзала его с тех пор. До того жадность человека умерялась безусловным обычаем братства. Возможности захватить власть представлялись редко, а противодействие властолюбцам было мощным. Но в благоденствующих городах людей стали манить новые блестящие трофеи. И оттого, что их блеск заворожил всех, противодействие заносчивым и самолюбивым ослабело, сохранившись лишь среди рабов, а кому есть дело до рабов? И откуда у них — вопрошали хозяева, — сила противодействовать? Это всего лишь умирающий обычай минувшего, племенного века. Нет, людей околдовали новые амбиции. Новая мораль нашептывала в их сердцах, притворяясь правдой. Богатство, военная сила, имперское величие требовали всеобщего союза.
Дух человек помнил, что даже сам он в те времена обманулся новыми необычными ценностями. Ведь в предшествовавший, Золотой век, его множественное тело было беспорядочным роем малых племен, а теперь упорядочилось, и ему показалось, что ради порядка целого стоит пожертвовать частью. Порядок обещал его телу новую силу. Организовавшись в большие государства, в иерархию социальных классов, его малые члены (казалось ему) разовьют новые органы чувств, новые творческие навыки. В новых городах часть людей, освобожденная от рутинного труда массами тружеников, смогут целиком посвятить себя вопросам духа, природы человека и его судьбы. Вот так даже самому духу человеческому показалось, что новый порядок откроет новые просторы; и он забыл о множестве отдельных членов, рожденных личностями, но обреченных новым порядком на рабство, на то, чтобы стать винтиками огромной машины.
Вспоминая свою прошлую глупость, он восклицал:
— Какой бес, какая сила тьмы кромешной прокралась в каждую ткань моей плоти, и даже в мое внутреннее я? Или что за слабость моего существа так подвела меня?
Он смотрел на толпища тружеников с увечным духом, возделывавших неподатливую землю убогими орудиями, чтобы содержать богатых в роскоши; волочивших огромные глыбы, чтобы возвести храмы для жрецов, дворцы и гробницы для королей. В каждом отдельном страдающем рабе, в миллионах их, поколение за поколением, присутствовал дух человеческий. Он видел каждое дитя, которому отказали в прирожденном праве человека, чью надежду на счастье разбил тяжкий труд и жестокость. Жил он и в умах привилегированных, которым полагалось бы стать утонченными орудиями его пробуждающейся мысли, но в них он чаще находил одержимость роскошью или личной славой, да еще мечты о бессмертии. Он смотрел, как они сплетают множество мифов о жизни будущей и посвящают половину своей энергии и труды бесчисленных рабов тому, чтобы закрепить за собой место в ином мире.
Обозревая эти тысячелетия в конце своего детства, дух человеческий видел, что силы человеческие непрерывно возрастали. Города становились пышнее, империи — огромнее, армии все лучше вооружались, ремесленники копили мастерство. Но давалось это ценой пота, а порой и крови бесчисленных рабов. И высшим классам это представлялось естественным и правильным, потому что товарищество древних племен забылось. Пусть между любовниками, между друзьями, среди работающих вместе иногда вспыхивала любовь, но общество теперь связывалось не товариществом, а стальными узами власти. И хотя в ярких умах шевелилось любопытство к тайнам вселенной, они по-прежнему утоляли этот зуд фантазиями, измышленными в меру прихоти. Они не могли еще ясно понять, что такое мышление и каков потолок его полета. Ни любовь, ни разум не стали путеводной звездой.
Дух человеческий припоминал, как в то время и сам он отклонился от пути, который почти прочертил для себя в Золотом Веке. В эпоху рабства и империй болезнь плоти затуманила его разум и затемнила чувства. Он был подобен человеку в горячечном бреду. И новая приманка власти смущала его, как бредовое видение. Но даже в ту темную эпоху там и здесь, снова и снова он обретал просветление: и в уме непризнанного пророка или смиренного раба он, пусть тщетно, возвещал некие грани истины.
Эра пророков
Переводя луч мысленного прожектора на следующий этап своей жизни, дух человеческий припомнил внезапное пробуждение, переход от детства к отрочеству.
Терзаемый отчаянием трудящихся роев и бесплодностью высших, напуганный собственным бредом, он, дух человеческий, собрался, наконец, с силами и вновь пробудился, чтобы вновь, и более полно вернуть себе понимание происходящего и бороться, как не боролся прежде, со слабостями собственной природы в отношении своих членов и целой вселенной.
Сквозь минувшие века болезни он яснее постигал, что значит здоровье. Став участником великого зла, он тем настойчивей стремился теперь к добру. Иные из обуревавших его дурачеств легко отвергались, с другими было труднее. Его никогда не искушала мысль, что возвышение одной империи, одного властителя или благородной касты что-то значит. Не более, чем человек может быть верен правой руке за счет левой. И вечная жизнь малых человеческих личностей не казалась ему ни желательной, ни вероятной. Он слишком хорошо сознавал их малость и обыденность. Слишком часто, в самый момент смерти, он вырывался из утопающего отдельного духа и наблюдал, как тот гаснет.
Но в междоусобной борьбе людей за власть и империи, духу виделась надежда на мировой порядок и на его самовластное правление всей плотью. Очарованный этой надеждой, он забыл о деградации, которую несло его членам рабство. Но теперь уж никогда, никогда он не убедит себя, что может процветать на их деградации, и не позволит себе заниматься несколькими равнодушными, в то время как множество других страдают.