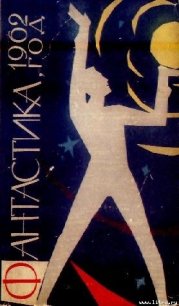Рисунок Дароткана - Гор Геннадий Самойлович (читаем книги онлайн .TXT) 📗
– Понимаю.
– Вряд ли ты это поймешь. Чтобы догадаться об этом, надо много лет провести в лесу или в степи, знать повадки зверя, понимать разговор птиц и мнимое молчание рыб.
– Почему мнимое?
– Поживешь – узнаешь.
Я смотрю на Августа Юльевича, на его огромные, как бараньи рога, усы, на его руки, держащие самодельный ковш, на его длинные ноги, обутые в бродни, сшитые из сыромятной кожи, и пытаюсь связать его облик с тем, что я о нем знаю.
Что же я о нем знаю?
Я знаю, что он убил жену и за это был сослан в наш край. По слухам, он убил жену из ревности. Жена ему изменяла с чернобородым, цыганоглазым священником. Священник в длинной рясе и с большим серебряным крестом, висевшим на груди, появлялся в доме Августа Юльевича как раз в те дни, когда тот отлучался на охоту. Н тут происходила измена. Я не совсем еще понимал. Но догадывался, что это нечто ужасное, от чего взрослый хороший человек может сойти с ума и выстрелить в жену из охотничьего ружья.
Я много раз слышал историю о том, как Август Юльевич зарядил ружье крупной дробью и как священник, вылезавший в окно, застрял там, запутавшись в своей длинной рясе, и, крестясь, ждал смерти. Но заряд был предназначен не для него, а для высокой красивой женщины, с которой Август Юльевич прожил всего полтора года.
Каждый раз, представляя себе эту сцену, я жалел, что там не было меня. Если бы я был там, я попросил бы Августа Юльевича не стрелять в жену, а придумать ей другое наказание, тоже справедливое, но менее суровое.
Крестьяне и эвенки не осуждали Августа Юльевича за его жестокий поступок. Ведь он стрелял в жену в минуты страшного гнева, перешедшего в безумие, и долго лежал в психиатрической больнице, прежде чем оттуда попасть сначала в тюрьму, а потом – в наш край, на вечное поселение.
21
Возвратившись из Даротканова леса домой, я вдруг заново увидел давно знакомые и привычные вещи, словно за трое суток, которые я пробыл в гостях, они постарели на сто лет.
Да, этот мир был ничуть не похож на тот, что остался в кожаном доме на берегу Ины.
Там вещи, люди, звери и птицы, так же как небо с рекой, не пребывали на одном месте. И жизнь, растворяясь в синеве леса, была похожа на плот, плывущий мимо скалистых берегов все дальше и дальше к неведомой горе, зимняя верхушка которой среди жаркого лета манит, как далекая и недостижимая цель.
Здесь вещи были погружены в молчание, в дремоту и духоту, и я не ощущал, глядя на них, ни малейшей свежести и новизны, словно они были обречены на немоту и глухоту, ограбленные кем-то и ставшие малой частью самих себя.
Разумеется, я был несправедлив к домашним вещам, так бескорыстно служившим мне и облегчавшим жизнь дедушке и бабушке. Но я не мог не заметить их безличия, словно кто-то уже надел на все чехол.
Ковш, сшитый из бересты, был прекрасен, но кто бы решился назвать прекрасным стакан, ничем не отличи-мый от своих стеклянных двойников?
Вероятно, мои мысли не были столь отчетливы и определенны, я не мог бы изложить их тогда так, как излагаю спустя больше чем полвека, но мои чувства были потрясены несоответствием двух измерений, находящихся рядом. Мир Дароткана казался мне бесконечно интереснее того, который меня окружал.
Ощущение потерянных цивилизацией ценностей уже тогда смутно проникло в мою душу и отравило ее сомнением. Но разве можно разумно жить, ни в чем не сомневаясь, не создавая в своем воображении возможные и невозможные миры, населенные твоими двойниками, которым каким-то чудом была дарована способность выбирать эпохи, планеты, страны, жизни и примерять к своей душе?
Я был одет в то же небо и в те же озера, леса а степи, что и Дароткан, но, живя всего в десяти километрах от сшитого из кожи дома, я все же пребывал в другом тысячелетии.
Смутная догадка, что разные люди, живя в одной местности, только по недоразумению считают себя соседями, не замечая той невидимой стены, которую воздвигли между ними века, – эта смутная догадка коснулась моего детского сознания и пробудила во мне бес-. конечный интерес к парадоксу времени.
Время, обтекая вещи и людей, погружая их в себя, вовсе не создает одновременность для всех, а только для многих. Много позже, уже не в детские, а в студенческие годы, наука, называемая этнографией, пыталась на своем немощном академическом языке приобщить меня к этой тайне и объяснить чудо неодновременности, присутствующей в жизни кажущихся современников.
22
Я рассказываю Алешке, как плыл на плоту по кипящей Ине к гольцу с зимней верхушкой, пока плот не остановился в синем, как речная волна, раю и мир стал до того прозрачным, будто на свете существовало только небо и река с хариусами, остановившимися в быстрине.
Алешка слушает с насмешливой недоверчивостью. Я рассказываю, как Август Юльевич сшил ковш из березовой коры и какой вкусной оказалась вода, когда он зачерпнул ее этим ковшом из реки. Я рассказываю о домике Дароткана и о том, каким неинтересным и скучным показался после того наш собственный дом, сложенный из бревен, обитых тесом, с покрашенными масляной краской стенами и с тяжелыми, некрасивыми предметами, которые не сравнить с легкими, изящными вещами Дароткана или с ковшом, сшитым из березовой коры.
Лицо Алешки становится еще насмешливее, недоверчивее, и на нем появляется знакомое мне выражение, которое я видел на лице старосты, когда он, держа в руке большие овечьи ножницы, отрезал у Августа Юльевича его рыжий пушистый ус.
– Ну, и что же дальше?
Меня повергает в тупик и в уныние этот вопрос. Уж не хочет ли Алешка сказать, что плот не мог плыть в синеве между лесистых берегов вечно и рано или поздно он должен был остановиться? У всего на свете есть конец, и самое конечное из всего, что существует, – это счастье. Мои счастливые минуты остались позади вместе с быстриной реки, где остановились, застыв, зеленые хариусы. Вот это, по-зидимому, и хочет сказать мне Алешка.
– Значит, тебе понравился кожаный дом?
– Очень.
– А пожил бы ты в нем зимой или осенью, и не три дня, а всю жизнь….
Слово «жизнь» Алешка произносит с особой интонацией: видно, он знает о ней то, чего не знаю я. И жизль подтверждает это сначала на словах, а потом на деле.
– Приходи заптра к нам. Что-то увидишь.
– А что увижу?
– Я отрублю голову нашему петуху.
– А за что же ты отрубишь ему голову? Разве он провинился?
– Да нет. Ои старый. Ему пришла пора попасть в суп. Дедушка и отец в Усть-Баргузин уехали – покупать свежепросольного омуля. А бабушка боится крови. Вот и придется мне самому рубить голову петуху.
– А ты не мог отказаться?
– Отказываются трусы. А я, ты это знаешь, ничего не боюсь.
Мне как-то не верится, что важно вышагивающий петух с огромным сизым гребнем, символ Старостиной усадьбы, ни за что ни про что попадет в суп. А может, Алешка просто похвастался? Уж очень он любит притворяться взрослым.
Ночью мне снятся кошмарные сны. Вместо Алешки я вижу стоящего на цыпочках старосту, держащего в руке чье-то ухо. В следующее мгновенье я вижу, как оторванное ухо превращается в петушиный гребень. Острая боль пронизывает все мое существо, лежащее под байковым одеялом на деревянной кровати. Сознание скрытого, необъяснимого и пронзительного единства, близкого родства с петухом, которого завтра ждет казнь, сжимает мое опьяневшее от боли и ужаса сердце.
Я просыпаюсь и смотрю в окно. Видно небо с луной и множество звезд. Я уже слышал от Августа Юльевича, что каждая звезда – это целый мир, подобный Земле или Солнцу. Мне хочется забыть о петухе, и о себе и, слившись с набежавшей, как речная волна, мыслью, вырваться на простор.
Я долго лежу и снова засыпаю, словно проваливаясь в этот черный простор, наполненный далекими, насмешливо подмигивающими мне мирами.
Утром, торопясь и обжигаясь, я пью чай. Боюсь опоздать на петушиную казнь.
В старостином дворе уже сделаны все приготовления. На траве возле сарая стоит толстое березовое полено. На нем лежит топор.