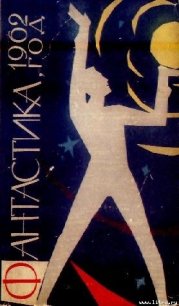Рисунок Дароткана - Гор Геннадий Самойлович (читаем книги онлайн .TXT) 📗
17
Мы с дедушкой едем к Дароткану. Позади осталась гора. Но я оглядываюсь и смотрю – не гонится ли она за нами?
И в самом деле, за нами кто-то бежит. Нет, это не гора, которая поленилась встать, а Лера.
Лера бежит, высунув узкий розовый язык. Рядом со мной в плетеном тарантасе сидит Август Юльевич. Он везет ружье, котомку и усы, похожие на кончик лисьего хвоста, неровно пришитого к верхней губе.
Дорога и лошадиные ноги, играя, несут нас к синеве и прохладе, туда, где течет Ина, а на берегу стоит кожаный домик Дароткана.
Дорога капризно выгибается. Над нами и холмом висит большое розовато-синее облако рядом с маленьким – оленьей важенкой с сосунком.
Лошадь бежит, ударяя копытами о желтую спину дороги.
Дорога ныряет в густой, сырой, темный, как ночь, лес и снова выбегает в утро.
Поездка укачивает меня, и я погружаюсь в сон, на дне которого клокочет ручей, пахнущий листьями смородины.
18
Природа раскрылась, как новая тетрадь. Но кто изобразил эти зеленые круглые камни, через которые прыгает синяя река, и эти лесные горы, опрокинутые над водой вместе с небом?
Всего этого, разумеется, не было, все это только что возникло. Речной шум хмелит мое сознание, и я пью настоянный на пихтовых ветвях воздух, словно это густое оленье молоко.
На берегу стоит деревянный дом и тот, другой, натянутый на конусообразно поставленные жерди и сшитый из кожи, как рукавицы или кисет.
Жизнь здесь нарядилась в кожу, чтобы быть легкой, как оленья важенка, бегущая по тропе вместе с теленком.
В деревянном доме Дароткан живет зимой, а в кожаном – летом. Я еще не подозреваю, что между деревянным и кожаным домом лежит, свернувшись, невидимое и неслышимое тысячелетие. Мне кажется, что дом и чум стоят рядом.
Я подсчитываю шаги, отделяющие деревянные стены от кожаных. Где мне догадаться, что каждый мой короткий детский шаг длиннее столетия. Нет, моя мысль еще не подготовлена, чтобы понять парадоксальный феномен тунгусского бытия. Но и мне кажется удивительным, что вещи, которые населяют деревянный дом, не похожи на те, что делают таким прекрасным кожаное жилище.
В кожаном доме нет печки. Вместо печки – очаг:
три больших круглых камня, поднятых со дна Ины и принесенных сюда. В очаге пылают ветви хвороста, и струйка синего дыма поднимается над конусообразным чумом.
Дым костра щекочет мои ноздри, когда я переступаю через невидимый порог тысячелетия и попадаю в другое измерение, в котором живет Дароткан со своей женой Марьей.
У Марьи во рту трубка, похожая на сук, и ходит она так же неслышно, как и Дароткан, едва прикасаясь к земляному полу своими легкими ногами, обутыми в замшевые унты.
На синей воде Ины покачивается желтый, связанный из бревен плот. Утро.
Тут всегда утро, как на рисунках Дароткана. Я встаю на скользкий круглый камень среди бурлящей воды. Перехожу на другой. Дальше еще камень. Он зовет меня. Я делаю шаг. Шаг над синей волной, чтобы опереться на скользкое тело камня.
Вода влечет меня за собой к берегу, опрокинутому вниз вместе с горой.
Оглядываюсь. На ветке кедра сидит белка – живая и пушистая, как ус Августа Юльевича. И вдруг кедр с живой, как ус, белкой и небом перевертывается, чтобы повториться в воде Ины.
Медленно-медленно плывет время на быстрых волнах этой куда-то торопящейся прохладной реки.
19
Вместе с Августом Юльевичем я ночую в кожаном доме.
В дымовое отверстие видна звезда. Уж не искра ли это, вылетевшая из очага и застывшая на одном месте?
Я долго-долго смотрю на догорающую головню, от которой так приятно пахнет дымом и смолой.
Мне мало что известно о течении времени, и мысль о том, что головня в очаге догорает тысячелетия и все никак не может догореть, освещая бесконечную ночь сменяющих друг друга поколений тунгусского племени, эта мысль еще не тревожит меня.
Я погружаюсь в сон, как на дно тунгусской лодки. подхваченной перекатом и подброшенной к верхушкам лиственниц и кедров, которые уже затеяли хоровод на берегу.
Деревья пляшут под звон бубен и стук барабана. Ритм танца становится все бешеней и бешеней. С деревьями вместе пляшет шаман, которого я видел вчера пьющим чай, вскипяченный на оленьем молоке.
Я просыпаюсь, и снова вижу звезду, заглядывающую в дымовое отверстие, и снова засыпаю.
Сон ведет меня на берег Ины, где меня ждет плот, привязанный к серебристому пню недавно срубленной лиственницы. Я ступаю босыми ногами на студеное, как снег, скользкое бревно плота. Между желтых бревен синеет вода. И вдруг плот отплывает от берега и несет меня по Ине все дальше и дальше, в неведомые края, прячущие себя от людей за облачной горой. Я плыву среди камней, торчащих из опрокинутого на землю неба недалеко от берега, душно пахнущего багульником и брусничником. В быстрине, застыв, остановился хариус.
Нет, это не сон. Со мной рядом стоит Август Юлье-вич, и губы его смеются, полузакрытые лисьим хвостом пушистых усов.
Это продолжение сна, снившегося мне ночью в кожаном доме, и начало тех воспоминаний, которые теперь никогда не расстанутся со мной, время от времени возвращая мне этот исчезнувший миг, Ину, камни, плот и зеленого хариуса, остановившегося в быстрине, как длящийся миг, сопротивляющийся течению и для этого растопыривший желтые рыбьи плавники.
Утро. Оно началось давно, когда мы с Августом Юльевичем вышли из кожаного домика, и оно кончится не скоро, задержанное случаем. Мы движемся в утре вместе с плотом и рекой, у которой нет желания оторваться от нас, вместе с облаком и рыжей белочкой, сидящей на кедре.
И вот волна подхватывает нас и несет среди скал. Вода вертится возле камней, а кажется мне, что плот вынесло сюда прямо из сна, оборвавшегося в кожаном доме, но кем-то наспех склеенного со скалами, ущельями и покосившейся горой с опрокинувшимися вниз деревьями.
Мне страшно и весело. Бревна плота пляшут вместе с водой, раскрашенной кисточкой Дароткана.
Плот замедляет движение возле горы, по которой круто карабкаются лиственницы, спеша к облаку, закрывшему розовую верхушку гольца.
Вокруг нас прозрачная синева и чуть слышная музыка. Не сразу я догадываюсь, что на скрипке играет не приехавший из Иркутска скрипач, а река.
20
Миг никуда не спешил, он уже соединился с костром, который развел мой рыжеусый спутник, и задумчиво плыл вместе с колечками дыма.
Над костром висел котелок. В котелке варилась уха из хариусов.
Да, время замедлилось, как это бывает только в дет-сгве, когда все можно разглядеть, никуда не спеша.
Я разглядывал мир, куда только что приплыл вместе с Августом Юльевичем на плоту.
Внизу вьется тропа. Ее протоптали дикие олени, приходившие сюда на водопои.
С горы вниз к реке спускаются березы. Они только что остановились, испугавшись нас, боясь выдать свою тайну.
Август Юльевич выбрал самую толстую березу и острым ножом срезал кусок березовой коры. Из бересты он сшил ковшик и зачерпнул им воды из Ины. Он пьет, а его рыжий ус – кончик лисьего хвоста – плавает в берестяном ковшике.
– Вода волшебная, – говорит Август Юльевич. – Она спустилась сюда с вершины гольца и принесла с собой запах снега, лежащего на вершине. Однажды мне удалось там побывать.
– Где?
– На самой вершине, где лежит в колыбели эта река.
– В колыбели?
– Ну, не в буквальном смысле. У ее истоков. Меня почему-то всегда тянет туда, где берут начало реки. Мысль бежит, пытается угнаться за течением реки. И становится почему-то хорошо, словно природа проговорилась и невзначай выдала одну из своих тайн.
– Почему же невзначай?
– Природа все делает невзначай. Ученые говорят, что и человек тоже был создан нечаянно, как песня или поговорка. Я бы тебе это объяснил, но боюсь, ты не поймешь. Это только люди делают все намеренно, с расчетом. Да и то не все. А природа, в отличие, скажем, от твоего деда, конторскую книгу еще не завела. Да и считать ей некогда. Слишком уж большие числа. Понимаешь?