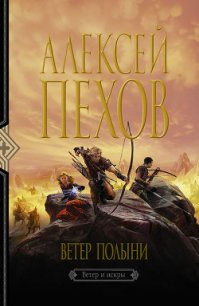Марсианское путешествие (сборник) - Гигевич Василий Семенович (читать книгу онлайн бесплатно полностью без регистрации .TXT) 📗
Проходил день-другой, и во время очередной встречи в университетском скверике Олешников не менее решительно и не менее категорично начинал новый монолог:
— Старики, — при этом Олешников неторопливо поглаживал жиденькую бородку и смотрел мимо нас куда-то далеко-далеко. Он, казалось, даже и не мимо нас смотрел, а сквозь нас, будто сквозь стекло. В тот год почти весь первый курс отпустил бородки, что само по себе было признаком гениальности и озабоченности мировыми проблемами, так что мне порой становилось не по себе от мысли, что же делать с таким количеством гениев? — Старики, я считаю, что тайна бытия недалеко, она совсем рядом, возможно, она в каждом глотке воздуха, которым мы, не задумываясь, дышим. Задумывались ли вы, старики, о том, что чем глубже в микромир залезает человек с помощью физики и техники, тем больше загадок открывает он в, казалось бы, пустом пространстве? И вот недавно я стал догадываться — пока что эта гипотеза принадлежит только мне, но вскоре я докажу ее всему образованному миру, она станет теорией, — что микромир и макромир, даже и не макромир, а вся Вселенная не просто где-то граничат, а переливаются друг в друга… Это трудно объяснить, как трудно объяснить и то, что представляет собой электрон — частичку-волну… Вы хотя бы понимаете, что я хочу сказать? Чем глубже мы залезаем в микромир, тем, как это ни удивительно, все больше энергии пробуждается в мертвой пустыне. Ядерные реакции, термоядерные. Все это — только врата, только начало, только цветочки… Если мы взорвем нейтрино — мы взорвем и всю Вселенную. Микромир не подпускает к себе человека. Вы-то догадываетесь, что в этом как раз и есть загадка? Здесь, там (Олешников начинал указывать пальцем вокруг себя, и в это время он казался сумасшедшим), в каждом глотке воздуха таится та страшная энергия, которая в любой миг может взорвать, разнести на кусочки не только всю Землю, но и всю галактику. В космос к загадке нашего бытия мы если и сможем добраться, то только с помощью того таинственного и грозного, что спрятано внутри ядра…
— Да брось ты нам головы морочить, Олешников, мы давно не дети, — говорил Лабутько и презрительно сплевывал на асфальт дорожки, — все, о чем ты здесь заливаешь, давным-давно было: и громкие слова о космосе, и о микрокосмосе, и даже, я считаю, ядерные реакторы были… Не первые мы, не первые. Нам надо только научиться разгадывать то, что спрятано здесь, под нашими ногами. Недаром ведь, недаром когда-то было сказано: из земли вышел и в землю пойдешь… — И Лабутько так стучал ногою по асфальту, что даже очки сползали ему на нос. И он начинал смеяться над Олешниковым, как над ребенком. — История — вот истинный источник знаний. Дай Бог, чтобы мы разобрались в том, что было когда-то на Земле до нашего появления на территории той же Белоруссии. Время — это Господь Бог. Как ты этого не поймешь, Олешников? Если мы сумеем понять по-настоящему, открыть или постичь тайну Времени, то станем вечными. Неужели ты не понимаешь, что человек всю жизнь борется со временем: и пирамиды, о которых ты только что вспоминал, и храмы, и современные города, и добрые дела, и плохие, кстати…
Все это только попытка, только неудачная попытка постичь тайну Времени…
А я что говорил?
И я, конечно же, не лыком шит, я тоже сплевывал на серый асфальт, исподлобья посматривал на Олешникова и Лабутьку и не менее категорично и не менее уверенно начинал свой монолог:
— Оба вы прощелыги, как вас только земля сырая носит. Вам бы не здесь, в городе, наукой заниматься, вам бы лучше в Житиве сидеть и никуда вовек не высовываться. Или, еще лучше, коров по очереди пасти, бери кнут и «выгоняй» ори… Как вы не понимаете, что тайна бытия упрятана не в космических просторах и не в историческом Времени, а в человеке. Здесь она, здесь, — и я стучал кулаком в свою впалую грудь. И раз, и два. — Ты, будущее светило физических наук, Олешников, знаешь ли ты хотя бы, что в мозгу человека существует рентгеновское излучение, есть микроядерный реактор, тот самый реактор, который по всем твоим научным теориям не должен да и не может там находиться? А ты, — я величественно поворачивался к Лабутьке и спокойно рассматривал его огромные очки с золочеными дужками, — ты, великий историк, знаешь ли ты, что в генах человека заложена определенная программа его развития, от первого крика до самой старости… Будто в новейшей ЭВМ, в нас заложена та информация, которую вы оба собираетесь искать. Один — в недрах земных, другой — в просторах космических. Ах, какие же вы прощелыги, как вас только из Житива выпустили!
И тут мы неожиданно, как по команде, замолкали, застывали в университетском скверике, подобно памятникам, неподвижно стоящим уже который год… И все было так, как бывает всегда, когда человеку напомнят о чем-то плохом, а то и неприятном в его личной жизни — о том, что кроме самого человека и знать никто не должен.
Каждому из нас вспоминалось Житиво, которое здесь, в городе, мало кто знал, — та длинная запыленная улица посреди хат с палисадниками и непременными скамейками у палисадников, та извилистая Житивка, где учились плавать, те колхозные поля, со всех сторон окруженные пущей, то — зеленые в начале лета, то — желтоватые от созревших хлебов, картошка на огородах, зацветающая посередине лета голубовато-белыми мягкими, почему-то грустными цветами, вспоминался колхозный двор с конюшней и водокачкой и — житивцы: женщины в длинных темных юбках, в кирзовых сапогах или резиновых, в которых столь удобно топтать осеннюю или весеннюю грязищу, а если на коровнике работаешь, то и вовсе не снимай с ног те резиновики ни зимой, ни летом; мужики ходили в хлопчатобумажных пиджаках или в фуфайках, у них были простые, вечно загоревшие лица, открытые пристальные взгляды, широкие мозолистые руки, умевшие косить, пахать, кидать вилами вонючий навоз (может, все началось не тогда, когда мы дружно, без оглядки повылетали из Житива, а намного раньше, когда мы впервые догадались, что навоз, оказывается, воняет, и, чтобы перебить этот неприятный запах, умные люди в городах придумали специальные сладкие духи и одеколоны, и после этого нас уже никакой силой было не удержать в Житиве), а еще житивцы умели вершить стога, наловчились водить тракторы и машины, доили коров, пестовали детей… Житивцы многое умели, однако они не умели столь вычурно, как мы, рассуждать о вечности и бессмертии, может быть, они и совсем не задумывались над всем этим вечным: и над неуловимым загадочным Временем, и над привлекательным бесконечным космосом, а тем более над тайнами микрокосмоса, может, им вместо этих рассуждений по самые уши хватало впечатлений от того светлого весеннего дня, когда они ходили на погост проведать своих, может, именно это и было для них тем наивысшим, к чему могли они приблизиться в своем разумении: тихонько посидеть у зеленого холмика, под которым уже ничего и никого нет, всплакнуть и, утерев мозолистой ладонью мокрое лицо, снова взяться за свое, извечное, без конца и края, это двухсменное — в колхозе и дома, и в которое иногда вплетались бабьи ссоры и сплетни, редкие протяжные песни, все более и более заглушаемые транзистором, и еще вплеталась надежда, что где-то там, далеко-далеко от Житива, существует иная, прекрасная жизнь, в которую их разумные детки, пусть только на ноги встанут, пойдут толпой, чтобы отыскать свое счастье…
О-о, какие тогда, на первом курсе, мы были умные! Как всё мы хорошо знали, как нам было стыдно за своих малограмотных житивцев!
И потому, помолчав, больше ни слова не сказав друг другу, мы быстренько разбегались из университетского скверика, и снова каждый из нас, будто утопающий за соломинку, хватался за толстые и тонкие учебники, за мудрые лекции, после которых на первых порах мир становился простым и ясным, а потом, спустя день-другой, он окутывался еще большим мраком, мы хватались за опыты в лабораториях, ибо каждый из нас быстрее стремился постичь то вечное, чего житивцы — какие они отсталые, наши житивцы, ну прямо тьфу скажешь, слушая их деревенские разговоры о поросятах или о картофеле! — никогда не могли ощутить и понять по-настоящему.