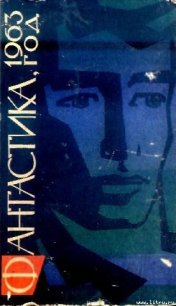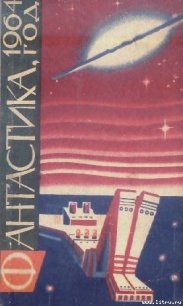Фантастика, 1962 год - Гор Геннадий Самойлович (книги .TXT) 📗
— Луи-Степан Севастьянов. Астромикробиолог. Уполномоченный нашего общества на Луне.
— Архипов. Межпланетный пропагандист и лектор.
— Гримильтис. Жан-Жак-Пьер. Крупный специалист в области изучения и применения гравитационных сил.
— Судьбин. Эстетика и астрофизика.
— Платон Петров. Генетика и нуклеиновые кислоты.
— Ламлай. Автор памятников Вернадскому и Циолковскому на Марсе.
— Цапкина.
Катаев на этот раз ограничился только тем, что назвал фамилию, не перечисляя заслуг названной ИУГ особы. По-видимому, эти заслуги не нуждались в перечислении и сами говорили за себя. В голосе академика послышались нотки почтительного уважения.
Я хотел рассмотреть Цапкину, но она не совсем вежливо отвернулась.
Наконец Катаев подвел меня к докладчику.
— Константин Балашов. Философ и инженер. Строитель космической станции “Балашове”.
Я едва успел обменяться двумя—тремя фразами с оказавшимся рядом со мной жизнерадостным Матиссом-Тицианом-Модильяни Коломейцевым. Началось заседание общества.
— Ван-Гог, — успел все же сказать мне жизнерадостный Матисс-Тициан-Модильяни Коломейцев, — был первый в мире художник, который фоном для своих портретов брал бесконечность, космическую среду. Он писал, словно живя среди звезд…
Балашов уже стоял на трибуне.
Я с интересом смотрел на философа, построившего самую большую космическую станцию солнечной системы. Он говорил спокойно, медленно, словно размышляя вслух:
— Вот уже в течение многих лет я пытаюсь мысленно восстановить далекое время. Я стараюсь представить себе во всей живой конкретности образ человека, прожившего большую часть жизни в захолустном городке царской России, в центре провинциального и конечного и увидевшего из окна своего домика бесконечность. Меня интересует биография Циолковского, обыденные факты его сверхобыденной жизни; но еще больше меня привлекает мышление этого необыкновенного человека, его способ видеть мир. Мы делим время на три отрезка: прошедшее, настоящее, будущее. Это деление возникло давно, когда человек впервые почувствовал, как бьется пульс бытия и как скользит мгновение, которому не прикажешь: остановись! Для Циолковского время делилось иначе: сначала будущее, потом будущее и будущее сейчас. Он держал пульс бытия в своей чуткой руке, и мгновение не скользило мимо его дома и мимо его сердца, он умел, когда нужно, задержать его и слить с вечностью. Он как бы жил в будущем и оттуда смотрел на настоящее. “Почти вся энергия солнца, — огорчался он, — пропадает в наше время для человечества”… Энергия солнца! А рядом жили люди, которые про солнце знали только то, что “оно всходит и заходит”. По ночам он вычислял. Он мечтал о том, как мгновение, закованное в металл, мгновение, внутри которого расположились завоеватели пространств, понесет человеческую радость, человеческие знания и человеческую дерзость и человеческую грусть за пределы земной биосферы в бесконечность.
Он жил в своем времени, но одновременно пребывал и среди нас. Он занимал свои идеи у тех, кто еще не родился. И родившиеся позже узнавали свои мысли и свои мечты, читая труды этого слившего себя с будущим человека. В Циолковском, в этом рано оглохшем скромном провинциальном учителе, мне открылась истинная сущность человека, переступившего порог вселенной и доказавшего, что Земля это только человеческая колыбель.
Я не буду своими словами пересказывать весь доклад о мировоззрении Циолковского. Да это и трудно сделать…
Во время короткой паузы, которую сделал докладчик, я оглянулся. Позади сидела Цапкина. Но мне не удалось разглядеть ее лицо. Она отвернулась.
Почему? Случайно или не случайно? Она делала это уже второй раз, словно не желая, чтобы я видел ее лицо.
Теперь я уже без прежнего внимания слушал инженера и философа Балашова. Я невольно думал о Цапкиной. Из всех присутствующих в зале членов общества я ничего не знал только о ней. Кто она?
Что у нее за специальность? Почему, когда академик Катаев назвал ее, в интонации его голоса и в выражении его лица появилось почтительное уважение?
Я выждал десять минут и снова оглянулся. И она, словно бы следя за мной, успела так быстро отвернуться, что я снова увидел только ее спину.
После того как кончился доклад и был объявлен перерыв, я спросил любезного и жизнерадостного Матисса-Тициана-Модильяни Коломейцева:
— Вы знакомы с Цапкиной?
На лице космического пейзажиста появилась загадочная и чуточку растерянная улыбка.
— Знаком ли? Как вам сказать? И да и нет, — он замялся.
— Что вы знаете о ней?
Я сам почувствовал, что вопрос был поставлен слишком прямо и неделикатно.
— Знаю, что все. Не больше. Гений терпения. Та, что умеет ждать. Нечто античное. Древнегреческое. Я бы сказал, представительница вечности, если бы это слово не звучало пошло и не отдавало метафизикой. Простите, меня зовут… — Он показал рукой в тот конец зала, где стояла группа членов общества.
Он явно не хотел отвечать на мои вопросы.
Я начал бороться с самим собой, с своим любопытством. Я не решался больше спрашивать о Цапкиной и смотреть на нее…
Я боролся с собой, но любопытство оказалось сильнее. Придя к себе в гостиницу, я подошел к роботу-справочнику и повторил тот же вопрос, который только что задавал Матиссу-Тициану Коломейцеву. Робот сказал своим грассирующим задумчивым голосом рафинированного интеллигента:
— Простите. На такие вопросы я не отвечаю.
— Почему?
— Потому что они не предусмотрены программой.
Мне понравилась суховатая и деловая прямота автомата, так откровенно сославшегося на программу и не скрывавшего от меня свои, в сущности, ограниченные возможности. Казалось бы, мне следовало забыть об этой загадочной даме, почему-то не пожелавшей показать мне свое лицо, и заняться своими собственными делами. Что мне до этой Цапкиной, — говорил я себе. Но тщетно! Имя “Цапкина” цепко схватило мое сознание. Как я ни старался отвлечься, мысли все время возвращались к ней. Я думал о ней до ужина и после ужина, я думал о Цапкиной вечером, читая новую повесть тиомца Бома, и ночью, ворочаясь на мягкой, удобной постели.