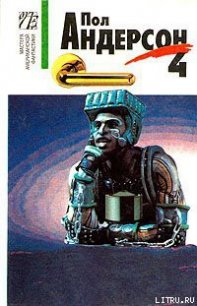Корабль Роботов. Ветви Большого Дома. Солнечный Ветер (сборник) - Пухов Михаил Георгиевич
И сейчас эти озорные, вполне дружелюбные реплики, которые мы тут, в общине, частенько слышим: «Наработались, мужички, со времен плейстоцена, [20] — отдыхайте!» — «Мы вас будем беречь, вы наше самое большое сокровище!» — «Не беспокойся, горе мое, без тебя справимся; и вообще, отвыкай суетиться!» Буквально сковали руки, и кому же? Мне, свободному землянину, хозяину своей судьбы! Естественно (для них естественно): кто бездельничает, тот не посягнет на власть…
Страшно было даже подумать: проснуться однажды ночью — и не ощутить рядом Гиты, ее дыхания, ее жаркого послушного тела. Но, пожалуй, еще страшнее было чувствовать себя точкой приложения чьих — то усилий, тем более идейно оправданных… надо же, какая мысль — свести меня, всего меня к похабной роли быка — оплодотворителя!
На исходе октября в нашей с Уго тесной компании недовольных появился третий. Вернее, третья — Николь Кигуа, двадцатипятилетняя мулатка, сбежавшая из непарной семьи. Выяснилось, что не всем женщинам в общине мед: более неприкаянной особы, чем Николь, я никогда не видел. Если нас амазонки не допускали ни к какому делу, то она, наоборот, старалась отвертеться от любых поручений. Николь охотно играла с нами в видеофантом — ный театр, проводила время за сбором грибов или в бешеной скачке по лугам… и при этом глаза ее оставались такими потерянными, что делалось зябко. Ее дочь, Сусанна, резвилась с другими детьми под умелым присмотром воспитательниц — а Николь, с опрокинутыми внутрь безотрадными глазищами, вовсю старалась забыться. Пробовала она пофлиртовать с Уго, но тот панически боялся своей мужеподобной и, кажется, здорово ревнивой Аннемари. Со мною ей удалось достигнуть большего, когда мы ночью решили устроить последний в году заплыв: честно говоря, несмотря на всю мою привязанность к Гите, я давно уже хотел попробовать с кем — нибудь другим, и Гита не возражала… Только все это было без толку. Из нас двоих она никого в сердечные друзья не заманила; а другие мужчины для Николь просто не существовали, поскольку были, по ее словам, стары и насквозь испорчены…
Однажды, уже в промозглые ноябрьские дни, Николь разговорилась у камина. Мы тогда выпили изрядное количество горячего вина с пряностями, и нас всех тянуло на исповедь. Но Николь ничего не желала слушать.
— Вот, принято считать, что нет людей без творческого призвания! — монотонно говорила она, расширенными зрачками уставившись в пламя. — Может быть, и так. В учгороде у меня определили хорошие данные балерины и склонность к гидробиологии. А я не захотела заниматься балетом, мне скучны все эти плие и батманы… И рыб не стала потрошить. Интересно, почему? Наверное, мало выявить в человеке призвание; надо ему еще внушить, что для него это призвание — самое важное, что есть в жизни! Мне вот не захотели внушить. Или не сумели. А может, я просто динозавр какой — нибудь, вымерший тип?.. Всегда хотела только одного: любить и быть любимой.
— Ну, какие у тебя проблемы? — паясничал Уго. — Обратись в этот новосозданный… как его? Совет Этики. И попроси утвердить новую профессию — любящего! Создай цех или, лучше, корпорацию. Стали же профессиями материнство, отцовство…
— Дурачок, — снисходительно усмехнулась Николь. — Как раз те, кому это больше всех нужно, никогда не смогут удовлетворить свое желание. Люди, для которых любовь — между прочим, приятное приложение к делам, всегда найдут, с кем соединиться. А мы, «профессионалы», однажды убеждаемся, что любить некого. Некого…
Я слушал Николь — и вспоминал одну сцену, свидетелем которой довелось мне быть с месяц назад. Возвращаясь на рассвете после всенощной болтовни с Уго, увидел сквозь ивовые кусты Кларинду. Не замечая меня, отрешась от всего кругом, сидела верховная амазонка в одиночестве на сухой коряге, посреди песчаной отмели, и неподвижно смотрела в сторону восхода. Такая в эту минуту некрасивая, сгорбленная; и глаза, обычно напористые, жесткие, глядят покорно и обреченно. Подойти и приласкать, сказать нежное слово… Не отважился. Бесшумно ступая на носках, ушел прочь…
Договорив, Николь встала со шкуры перед камином и выбежала из комнаты. Не обернувшись, не попрощавшись. Мы остолбенело сидели, не зная, что теперь думать или говорить, и вино праздно остывало, налитое в керамические стаканы. А за окном, ослепленные собственным светом, сшибались в небе лучи прожекторов, и мелкая, в зубах отдаюшая дрожь прокатывалась по полу. Сегодня на стартовой площадке проверяли десинхронный отрыв корабля.
10
«Боже мой, боже мой, да каким же он должен быть?! Я точно знаю, точно знаю, что не смогу прожить одна, чем бы я на этом свете ни занималась… Зато он пусть будет один, и только один: никакой полиандрии, будь она проклята, и никакой смены партнеров! Одни руки, один голос, один запах — навсегда…
Так все же — каким он должен быть? Заботливым, покладистым, мягким, никогда не возражающим, готовым подчиниться любому моему капризу? Умру с тоски через неделю, какая уж тут вечность… Своенравным, крутым, властным, лишь иногда милостиво снисходящим к моим желаниям? Взбунтуюсь, опять потянет к амазонкам… Флегматичным, равнодушным, лишенным страстей и нервов? Опротивеет. Кое — кому нравятся молчаливые увальни, дремлющие на ходу, но, по — моему, это ложная мужественность… Пылким, подозрительным, страстным, ревнивым, злопамятным? Плохо, когда в сердечных друзьях дикарь. Интеллектуалом, философом, ясновидцем, никогда но опускающимся на землю? Тяжело жить, стоя на цыпочках. Неунывающим, шутником, гаером, которому все трын — трава? Все равно, что поселиться в репетиционной комнате клоуна… Так каким же он должен быть, каким, каким?..»
Разбудив и покормив Сусанну, Николь привязала ее за спиной и выехала на разбитое асфальтовое гаоссе, сквозь которое проросли тополя. Мир подобен серой вате: ни дали, ни выси, серый расплывчатый хаос, полный холода и оседающей каплями влаги, хаос без лучей и теней, где четки лишь мокрые смоляные стволы и ветви ближних деревьев.
Николь отпустила поводья и ехала шагом, покуда за лесным поворотом, посреди озера, забитого ржавой осокой, не возник неожиданно чистый и яркий дом, апельсином лежащий на воде. К нему вела через топь, через лохматые кочки невидимая, обозначенная огнями силовая дорожка. Хозяева, очевидно, были дома: в стойлах топтался нервный мышастый жеребец и дремала смирная крапчатая кобылка. Мышастому не понравилось появление Ба — ярда, он захрапел и потянулся кусать, вздергивая губу над огромными бурыми зубами; Николь хлестнула его наотмашь по ноздрям. Поставив своего коня в пустой денник, она засыпала ему зерна из большого, стоящего тут же ларя, а затем с Сусанной на руках поднялась по винтовой лестнице.
В жилых покоях не было и намека на «ретро». Оранжевые стены светились насквозь, точно не угрюмый ноябрь царил снаружи, а пылало июльское солнце. Над головою Николь медлительно клубился рой предметов: разноцветные объемные фигуры и шелковые полотнища, цветы и камни, полуразобранный локомобиль и живые, перебирающие лапами в воздухе щенки. Центром вращения были дети — мальчик и девочка, ей года четыре, ему не более семи лет. Паря без опоры, они вдумчиво собирали нечто пестрое, разнородно — слиянное…
У детей были скуластые желтовато — коричневые лица, жесткие черные волосы и узкие прорези глаз. Николь поманила их к себе и расцеловала. Потом они сели перед приемником Распределителя: проголодавшаяся Николь заказала себе макароны с сыром и кофе, а детям землянику со взбитыми сливками. Пока они ели, бытовая машина раздела, вымыла и одела в новый комбинезончик Сусанну; промокшая одежда была, как водится, разво — площена.
Когда растаяла посуда с остатками еды, Николь спросила:
— А где ваши взрослые?
— У нас есть отец и двое дядей, — охотно ответил брат, между тем как девочка уже нетерпеливо посматривала вверх. — Но они вернутся только весной.
Николь поинтересовалась, не скучно ли им, не одиноко ли?.. Ответом были недоуменные, почти насмешливые взгляды. Сон брата и сестры не оканчивается по утрам, осколки шаловливо разбитой реальности кружатся в калейдоскопе по воле разыгравшихся маленьких богов. Тогда Николь спросила еще: