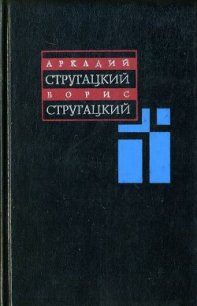Октябрьская страна (The October Country), 1955 - Брэдбери Рэй Дуглас (лучшие бесплатные книги TXT) 📗
– А что скажет твоя жена?
– А она нас метлой не погонит?
Но фургон уже исчез за холмом. Фермеры стояли, всматривались в темную ночную дорогу и говорили, говорили… Том Кармоди, так и не покидавший крыльца, негромко выругался.
Чарли поднялся по ступенькам своей халупы, прошел в гостиную и водрузил банку на предназначенный ей трон. Теперь эта унылая комнатушка станет дворцом, в ней будет император – да, лучшего слова и не придумаешь! – император, белый и холодный, бесстрастно покачивающийся в своем личном бассейне, император, возведенный на полку, приколоченную над кособоким дощатым столом.
И прямо сейчас, прямо на глазах у Чарли, банка выжгла холодный туман, набежавший с недалекого болота.
– Что это ты там притащил?
Высокий голос жены вывел Чарли из благоговейного экстаза. Теди стояла в дверях спальни: узкое тело обтянуто вылинявшим голубым ситцем, волосы стянуты на затылке в бесформенный узел, красные уши чуть оттопырены. Ее глаза напоминали вылинявший ситец.
– Ну так что? – повторила она. – Что это такое?
– А вот ты сама, Теди, как ты думаешь, на что это похоже?
Теди шагнула вперед, не отрывая взгляда от банки; бесстыжим маятником качнулись ее бедра, чуть оскалились белые кошачьи зубы.
Мертвое белое нечто, парящее в жидкости.
Теди бросила тускло-голубой взгляд на Чарли, снова на банку, еще раз на Чарли, еще раз на банку – и резко повернулась.
– Оно… оно похоже… оно очень похоже на тебя, Чарли!
Хлопнула дверь спальни.
Содержимое банки не шелохнулось, только у Чарли, соскучившегося по жене, лихорадочно заколотилось сердце. Потом, позднее, когда сердце уже успокоилось, Чарли заговорил, обращаясь к висящему в банке предмету:
– Я пашу эту болотину, каждый год ноги до жопы снашиваю, а потом она хватает деньги и бежит из дома – навещает, видите ли, своих родственничков по девять недель кряду. Я не в силах ее удержать. Она и эти мужики, собирающиеся у магазина… они надо мной смеются. И я не могу ничего с этим сделать – ведь я не знаю, как ее удержать! Кой хрен, теперь я хотя бы попробую!
Философическое нечто, обитавшее в банке, воздержалось от советов и рекомендаций.
– Чарли?
Кто-то у входной двери.
Чарли удивленно повернулся – и тут же расплылся довольной ухмылкой.
Они, мужики от магазина.
– Вот, значит… мы… мы, Чарли, мы тут подумали… ну, значит… мы пришли посмотреть на эту… эту штуку… которая у тебя в этой самой банке…
Вслед за жарким июлем пришел август.
Впервые за многие годы Чарли узнал, что такое счастье, он ликовал, как кукуруза, пошедшая в рост с первыми после засухи дождями. Каким блаженством были привычные вечерние звуки: приближающийся шорох сапог в высокой траве, затем небольшая заминка – гости вежливо отплевывались в канаву, затем скрип крыльца под тяжелыми ногами, жалобный стон косяка, на который навалилось очередное плечо, и наконец очередной голос:
– Можно мне зайти?
(Но сперва волосатое запястье аккуратно вытрет губы.)
– Заходите все, сколько вас там, – с деланным безразличием приглашает Чарли.
Стульев, ящиков из-под мыла, в конце концов половиков, чтобы сидеть на корточках, хватит на всех. К тому времени когда сверчки ногами выскребут из своих надкрылий ровное летнее гудение, а лягушки раздуют шеи и, как зобатые бабы, воплями огласят великую ночь, комната под завязку заполнится людьми со всех низинных земель.
Говорить они начнут не скоро. Первые полчаса такого вечера, пока народ собирался и рассаживался, проходили за тщательным изготовлением самокруток. Аккуратно раскладывая табак по полоске бумаги, заклеивая сигарету языком, осторожно перекатывая ее в ладонях, они раскладывали и перекатывали мысли свои, и страхи, и удивление, готовясь к вечеру. Самокрутки дарили им время подумать. Руки фермеров работали, придавая форму бумажным трубочкам с табаком, но еще больше работали их мозги, придававшие форму мыслям.
Это было нечто вроде примитивной церковной службы. Люди сидели на стульях, и сидели на корточках, и стояли, прислонившись к оштукатуренным стенам, и мало-помалу все они начинали благоговейно взирать на полку с банкой.
Нет, они не выпяливались на банку сразу, как какие-нибудь там зеваки, все происходило неспешно, словно бы само собой, словно они так, от нечего делать, осматривали комнату, отпускали свои глаза в свободное плавание, позволяли им бесцельно перебирать все находящиеся здесь предметы.
А потом – по чистой, конечно же, случайности – в фокусе их рассеянного внимания неизбежно оказывалось одно и то же место, один и тот же предмет. Через некоторое время здесь сойдутся взгляды всех в комнате глаз, как иголки, воткнутые в невероятную игольницу. И не останется никаких звуков, только разве что попыхивание чьей-то, из кукурузного початка вырезанной, трубки. Или шлепанье босых детских ног по дощатому крыльцу. А тогда, возможно, вмешается голос какой-нибудь из женщин: "Вы бы, ребята, бежали отсюда! Ну-ка!" И смех, похожий на негромкий звон ручья, и вот уже босые ноги мчатся распугивать лягушек.
Чарли – само собой! – будет на самом виду. В кресле-качалке, подложив под тощий свой зад ковровую подушечку, медленно покачиваясь, блаженно купаясь во всеобщем почтении, пришедшем вместе с банкой.
Ну а Теди – Теди мы найдем в дальнем конце комнаты, вместе с тесной кучкой женщин, серых и тихих, как мышки, терпеливо выносящих мужские причуды.
Теди словно готова в любую секунду взорваться, но она ничего не говорит, молчит и только смотрит, как мужчины стадом на водопой тянутся в ее гостиную и садятся у ног Чарли, и глазеют на эту штуку, вроде как на Святой Грааль, смотрит, и лицо у нее ледяное, и губы сжаты в ниточку, и она никому не говорит даже самого простого вежливого слова.
После подобающего периода молчания кто-нибудь – ну, скажем. Дед Медноув или Крик-Роуд – откашляет из глубинных своих глубин мокроту, подастся вперед, возможно, смочит кончиком языка губы, и в мозолистых пальцах будет необычная для таких пальцев дрожь.
Словно пение камертона, настроит эта дрожь всех присутствующих к разговору. Уши насторожены. Люди расположились уютно и непринужденно, как свиньи в теплой июльской луже.
Дед смотрел на банку, смотрел долго, затем снова обежал свои губы быстрым, ящерковым языком, откинулся назад и сказал – как всегда – писклявым стариковским тенором:
– И вот что же, все-таки, это такое? Вот, скажем, он это? Или она? Или вообще просто оно? Я вот, бывает, просыпаюсь ночью, ворочаюсь-ворочаюсь на матрасе из кукурузных кочерыжек и все думаю, как эта вот банка стоит тут, в ночной темноте. Думаю об этой штуке, как висит она в своем рассоле, бледная и спокойная, ну прямо твоя устрица. Иногда я разбужу мать, и тогда мы вместе о ней думаем…
Руки деда плясали в зыбкой пантомиме, все молча смотрели, как свивают невидимую нить толстые, с толстыми, грубо обкромсанными ногтями большие пальцы, как мерно колышутся остальные восемь, похожие на черные, скрюченные обрубки.
– …лежим с ней и думаем. И дрожим. И пусть душная ночь, и деревья потеют, и от жары даже москиты не летают, а мы все равно дрожим и ворочаемся с боку на бок, пытаясь уснуть…
Дед опять погрузился в молчание, словно говоря: я сказал вполне достаточно, и пусть теперь кто-нибудь другой выразит свое удивление, и свое благоговение, и свой страх.
Джук Мармер из Ивовой Трясины отер пот с ладоней о колени и тихо начал;
– Я вот помню, как был сопливым мальчишкой, и у нас была эта кошка, всю дорогу рожавшая котят. Господи Иисусе, да ей хватало раз смыться за ограду, и вот тебе, пожалуйста – подарочек… – Джук говорил вроде как благостно, мягко и доброжелательно. – Ну и мы что, мы раздавали котят, только к тому времени, как она в тот раз окотилась, у каждого из соседей, которые поближе, до которых можно дойти пешком, был уже наш котенок, а у кого и два.
Тогда мама вынесла на заднее крыльцо большую двухгаллонную стеклянную банку, до краев наполненную водой. "Джук, – сказала мама, – утопи котят!" Вот как сейчас помню, стою я там, а котята пищат и бегают, тычутся во все стороны, маленькие, слепые, беспомощные, и хуже всего, не совсем даже слепые, а чуть-чуть начинают открывать глаза. Посмотрел я на маму и сказал: "Нет, мама, только не я! Ты лучше сама!" А мама вся побледнела и говорит, что это нужно сделать, а никого другого не попросишь, только меня. И она ушла на кухню, делать соус и жарить курицу. Ну, я… я взял одного… одного котенка. Подержал его в ладони. Он был теплый. А потом он пискнул, и мне захотелось убежать куда угодно, чтобы только никогда не возвращаться.