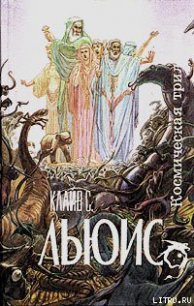Мерзейшая мощь - Льюис Клайв Стейплз (электронная книга txt) 📗
В эти дни многие прогрессисты перешли к оппозиции; те же, кто не сдался, сплотились крепче перед лицом всеобщей враждебности. Университет воспринимал теперь брэктонцев, как единое целое, и обвинял только их за сговор с институтом. Это было несправедливо, многие в других колледжах поддерживали институт в свое время, но никто не желал теперь об этом вспоминать. Бэзби спешил поделиться тем, что вывел из беседы: «Если бы мы отказались, это бы ничего не изменило», но никто ему не верил, и ненависть к колледжу росла. Студенты не ходили на лекции его сотрудников. Бэзби и даже ни в чем неповинного ректора публично оскорбляли.
Город, не особенно любивший университетских, на сей раз волновался вместе с ними. О безобразиях под окнами Брэктона и в Лондоне, и даже в Эджстоу почти не писали, но на этом дело не кончилось. Кто-то на кого-то напал на улице; кто-то с кем-то подрался в кабаке. То и дело поступали жалобы на институтских рабочих — и попадали в корзину. Очевидцы печальных сцен с удивлением читали в «Эджстоу телеграф», что новый институт благополучно осваивается в городе и налаживает отношения с жителями. Те, кто сам ничего не видел, верили газете и говорили, что все это — сплетни. Увидев, они в свою очередь писали письма, но их не печатали.
Однако, если в стычках можно было сомневаться, толчею видели все. Мест в гостиницах не было, никто не мог выпить с другом в баре и даже протиснуться в магазин (вероятно, у пришельцев денег хватало). Перед всеми кинотеатрами стояли очереди; в автобус нельзя было влезть, тихие дома на тихих улицах тряслись от бесконечного потока грузовых машин. До сих пор в таком небольшом городке даже люди из соседних местечек казались чужими; теперь же повсюду мелькали незнакомые, довольно противные лица, стоял дикий шум, кто-то пел, кто-то вопил, кто-то ругался на северном наречии, а то и по-валлийски или по-ирландски. «Добром это не кончится», — говорили жители, а позже: «Так и кажется, что они хотят заварухи». Никто не запомнил, когда и кем было высказано это мнение, а также другое: «Нужно больше полицейских». Только тогда газета очнулась. Появилась робкая заметка о том, что местная полиция не в силах справиться с новыми условиями.
Джейн всего этого не замечала. Она томилась. Может быть, думала она, Марк позовет ее к себе; может быть, он бросит «это» и вернется к ней; а, может, надо уехать в Сент-Энн, к Деннистоунам. Сны продолжались, но Деннистоун оказался прав: стало легче, когда она начала воспринимать их как «новости». Иначе бы она просто не выдержала. Один сон все время повторялся: она лежит в своей кровати, а кто-то у ее изголовья смотрит на нее и что-то записывает. Запишет — и снова сидит тихо, словно доктор. Она изучила его лицо — пенсне, четкие черты, остроконечную бородку. Конечно, и он ее изучил, он ведь специально изучал ее. Когда это случилось в первый раз, Джейн не стала писать Деннистоунам; и во второй откладывала до ночи, надеясь, что, не получая писем, они сами приедут к ней. Ей хотелось утешения, но никак не хотелось встречаться с их хозяином и к кому-то присоединяться.
Марк тем временем трудился над оправданием Алькасана. До сих пор он никогда не видел полицейского досье, и ему было трудно в нем разобраться. Фея об этом догадалась, как он ни притворялся, и сказала: «Сведу-ка я тебя с капитаном». Вот так и получилось, что Марк стал работать бок о бок с ее помощником, капитаном О'Хара, красивым седым человеком, сразу сообщившим ему, что он — хорошего рода и владеет поместьем в Кэстморт. В тайнах досье Марк так и не разобрался, но признаваться в этом не хотел, и факты, в сущности, подбирал О'Хара, а сам он только писал. Стараясь как можно лучше скрыть свое неведенье, Марк не мог уже говорить о том, что он — не журналист. Писал он и впрямь хорошо (это способствовало его научной карьере гораздо больше, чем он думал), и статьи ему удавались. Печатали их там, куда бы он никогда не получил доступа под своей подписью — в газетах, которые читают миллионы людей. Что ни говори, это было ему приятно.
Поделился он с О'Харой и денежными заботами. Когда тут платят? Он что-то поиздержался… Бумажник сразу потерял, так и не нашел. О'Хара громко расхохотался.
— Да вы попросите у заведующего хозяйством, — посоветовал он, — и он вам их даст.
— А их потом с меня вычтут? — спросил Марк.
— Молодой человек, — пояснил капитан, — у нас тут, слава богу, с деньгами просто. Сами их делаем.
— То есть как? — удивился Марк, помолчал и добавил: — Но ведь если уйдешь, с тебя спросят…
— Какие такие уходы? — изумился О'Хара. — От нас не уходят. Один только и был. Хинджест.
К этому времени расследование установило, что «убийство совершено неизвестным лицом». Заупокойную службу служили в Брэктонской часовне.
Туман стоял тогда третий день, и был уже таким белым, что в нем гасли все звуки, кроме перестука тяжелых капель и громкой брани. Пламя свечей поднималось прямо вверх, прорезая матовый шар светящегося тумана, и только по кашлю да шарканью можно было понять, что народу в часовне много. Важный и даже подросший Кэрри, в черном костюме и черных перчатках, держался ближе к выходу, сокрушаясь, что туман не дает вовремя привезти «останки», и не без удовольствия ощущая свою ответственность. Он был незаменим на похоронах; сдержанно, горько, по-мужски, нес он утрату, не забывая, что ему, одному из столпов колледжа, нужно держать себя в руках. Представители других университетов нередко говорили, уходя: «Да, проректор сам не свой, но держится он молодцом». Лицемерия в этом не было: Кэрри так привык соваться в жизнь своих коллег, что совался и в смерть. Будь у него аналитический ум, он бы обнаружил в себе примерно такое чувство: его влияние и дипломатичность не могут повиснуть в воздухе просто от того, что кто-то уже не дышит.
Заиграл орган, перекрывая и негромкий кашель, и громкую брань за стеной, и даже тяжкие удары каких-то грузов, сотрясавшие землю. Как и предполагал Кэрри, туман мешал везти гроб. Органист играл полчаса, не меньше, прежде чем у входа зашевелились, и многочисленные Хинджесты в трауре, согбенные, сельского обличья, стали пробираться на оставленные им места. Внесли булаву, появились бидли, и надзиратели, и ректор всего университета, и поющий хор, и, наконец, — самый гроб цветочным островом поплыл сквозь туман, который стал еще гуще, мокрее и холодней, когда отворили двери. Служба началась.
Служил каноник Стори. Голос его был еще красив, и красота была в том, что сам он отделен от всех остальных и верой своей, и глухотой. Ему не казалось странным, что он произносит такие слова над телом гордого старого атеиста, ибо он не подозревал о его неверии. Не подозревал он и о странной перекличке с голосами, вторившими ему извне. Глоссоп вздрагивал, когда тишину прорезал вопль: «Трам-тарарам, куда ногу суешь, раздавлю!», но Стори невозмутимо отвечал: «Сеется в тлении, восстанет в нетлении».
— Как заеду!.. — говорил голос.
— Сеется тело душевное, — вторил Стори, — восстанет тело духовное.
«Безобразие!..» — шептал Кэрри сидевшему рядом казначею. Но кое-кто из молодых жалел, что нет Фиверстоуна — уж он бы поразвлекся!..
Из всех наград, полученных Марком за послушание, самой лучшей оказалось право работать в библиотеке. После того злосчастного утра он быстро узнал, что доступ туда на самом деле открыт лишь избранным. Именно здесь происходили поистине важные беседы; и потому, когда как-то вечером Фиверстоун предложил: «Пошли, выпьем в библиотеке», Марк расцвел, не обижаясь больше на их последний разговор. Если ему и стало за себя немного стыдно, то он быстро подавил столь детское, нелепое чувство.
В библиотеке обычно собирались Фиверстоун, Филострато, Фея и, что удивительно, Страйк. Марк был очень доволен, что Стил сюда не ходит. По-видимому, он и впрямь обогнал его, или обогнул, как ему и обещали; значит, все шло по плану. Не знал он тут только профессора Фроста, молчаливого человека в пенсне. Уизер — Марк называл его теперь ИО или «старик» — бывал здесь часто, но вел себя странно: ходил из угла в угол, что-то напевая. Подойдя на минуту к остальным, он глядел на них отеческим взором и уходил опять. Являлся он и исчезал несколько раз за вечер. С Марком он ни разу не заговорил после той унизительной беседы, и Фея давала понять, что он еще сердится, но «в свое время оттает». «Говорила я — не лезь!» — заключила она.