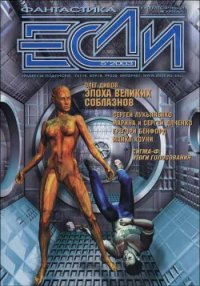Журнал «Если», 2001 № 06 - Дяченко Марина и Сергей (книги серия книги читать бесплатно полностью txt) 📗
— Ты ничего со мной не сделаешь, — сказал Тимур. — Я понимаю, мне тебя не разубедить… Но я должен хотя бы попытаться. Вот моя первая победа — ты разговариваешь со мной.
Свет погас — весь, кроме единственного прожектора, показавшегося теперь тусклым, будто одинокая лампочка в ободранном подъезде. Пятно света поползло по сцене; остановилось на меловой надписи: Уходи.
— Нет, — сказал Тимур.
Круг света передвинулся еще.
Ты слышал, на чем строится театр?
— На растоптанных самолюбиях, — Тимур усмехнулся.
Подбирай остатки своего — и убирайся.
— Послушай, — тихо сказал Тимур. — Почему бы тебе не усомниться? Хоть один раз немножечко усомниться… Я не говорю — пересмотреть вкусы. Ты знаешь, что такое театр — но ведь ты не знаешь, что такое жизнь! Как же ты можешь судить?
Пятно света нырнуло за кулисы. Переползло со сцены на бетонную стену.
А почему бы не усомниться тебе? — было написано на стене, в полуметре от земли.
— Потому что я уже прошел через сомнения. Я понял, что имею право на свой спектакль… на свой взгляд. Да, я напрасно пришел с этим к тебе. Я был глуп. Мне хотелось признания. Лучше бы я просто написал у себя на лбу: бездарность и формалист…
Луч поднялся выше. На черной краске было выцарапано, будто гвоздем:
Ты действительно бездарность и формалист.
— Разумеется, — кивнул Тимур.
Луч поднялся еще выше. Тимур шагнул вперед, к лестнице — и наступил на зажигалку.
Поднял. Не думая, бросил в карман.
От перекладин-ступенек пахло железом.
Тебя плохо учили, мальчик. Ты дилетант.
— Нет, — сказал Тимур.
Комочки высохшей грязи откалывались от его подошв и летели вниз.
Ты не умеешь элементарного.
— Нет, — повторил Тимур громче. — Я знаю законы, которые нарушил… Я сделал это намеренно. Мой Ученый, в отличие от персонажа пьесы, существует среди размалеванных кукол… Ведь рисует же ребенок синюю лошадь, прекрасно зная, что синих лошадей не бывает.
Самоуверенность — отличительный признак бездарности.
Тимур поднялся выше еще на несколько ступенек.
— Ты путаешь бездарность и непривычность… Да, мои персонажи сперва отвечают, а потом уже выслушивают вопрос. Я знаю — так неправильно, надо сперва услышать, оценить… Но ведь они же все глухие, кроме Ученого… Я знаю, что это не психологическая драма, а что-то другое… Но ведь сопереживание все равно возникает! Вернее, возникало — до того момента, как мы пришли к тебе.
Сцена осталась далеко внизу. Тимур стоял на узкой площадке с железным полом.
Ты ведь сам обратился ко мне, — было написано на дверце распределительного щитка, над картинкой с черепом и костями. — Хочешь уйти?
Тимур вцепился в поручни. Здесь всюду высокое напряжение, в темноте легко свалиться вниз и навсегда остаться инвалидом, а если угодишь в люк…
Ярость накрыла Тимура тяжело и внезапно, как незадолго до того упавшая кулиса. Но если из-под кулисы Тимур выбрался, то ярость не оставляла ему шансов.
— Не пугай! Ты губитель, а не храм. Ты — ортопедический корсет! Ты — протезная фабрика для здоровых людей! Ты сломал жизнь моей матери. Столько судеб, столько талантливых людей! Ты… Я хочу, чтобы тебя не было!
В семь часов утра к зданию Кона подъехали одна за другой три пожарных машины.
Огонь удалось потушить не сразу. Толпа вокруг Кона прибывала; пожарные казались неподобающе растерянными — но прятали робость за злостью. А что случилось с ними и что удалось увидеть в здании старого театра, они никому не говорили.
Потом к театру подъехала одинокая белая машина с красным крестом. Милиция оцепила служебный ход и отогнала толпу на изрядное расстояние, но все равно любопытные, привстав на цыпочки, видели накрытые простыней носилки.
Огнем была повреждена крыша над сценой и сама сцена, но не зал; городская управа торопливо выделила немалые деньги на ремонт, и уже через две недели Кон был полностью восстановлен. Со дня на день ожидали возобновления спектаклей, но время шло, и никто не мог объяснить недоумевающей публике, почему до сих пор пустуют афишные тумбы…
Большой снег выпал поздно. Крыши завалило так, что трубы и антенны увязли почти полностью; деревья стали похожи на белые привидения в простынях. Осенняя грязь канула под снег, будто не было ее вовсе, и только в круглой проталине на месте теплого канализационного люка виднелись распластавшиеся в слякоти кленовые листья.
Спектакли на Коне наконец-то возобновились; первой строкой обновленного репертуара значилась «Комедия характеров».
Среди предъявивших входные билеты была красивая немолодая женщина. Сдав в гардеробе длинное заснеженное пальто, она осталась в черных джинсах и свободном черном свитере.
В зале едва ощутимо пахло свежей побелкой. Возбужденные зрители занимали места; женщина в черном поднялась высоко на ярус. С ее места отлично видна была режиссерская ложа — там сидел безмятежный мужчина средних лет, нос его украшали маленькие очки в модной оправе, и, глядя поверх дымчатых стеклышек, он с интересом изучал зал — заранее восхищенный, ожидающий чуда.
Поднялся занавес. Начался спектакль. Прошла минута, другая…
Слушая знакомые реплики, женщина поймала себя на странном ощущении. Как будто между ней и сценой выросла стеклянная стена; глядя беспристрастно, со стороны, она легко замечала достоинства и недостатки спектакля — актерские находки и недоработки, кое-где режиссерские затяжки, кое-где пробалтывание текста, удачные ходы и намозоленные штампы. «Комедия характеров» предстала перед ней в первозданном виде — без ауры, создаваемой Коном. Без привнесенного Коном света. Нагишом.
Она усмехнулась. Вот, значит, какова цена случившейся с ней перемены: она научилась видеть спектакли Кона сквозь наброшенную им пелену гениальности…
А потом она обмерла от внезапной догадки.
Зал шептался. Поскрипывали бархатные кресла; кто-то кашлянул, но тут же смущенно стих. На сцене ни шатко ни валко шел стандартный, сотканный из «крепких» штампов спектакль. Не то чтобы плохой, не то чтобы хороший. Такой же, как десятки других, многократно сыгранных, привычных, будто растоптанные шлепанцы.
Из зала было отлично заметно, как потихоньку впадают в панику прежде спокойные, довольные жизнью актеры. Кто-то, стиснув зубы, гнал по накатанной схеме с упорством паровоза; кто-то метался, выпав из привычной колеи, пытаясь что-то придумать по ходу действия, обновить, оживить…
Тщетно. Ни помощи, ни противодействия; спектакль, привыкший к мягкой поддержке Кона, теперь вынужден был идти сам. С таким же успехом можно было бы играть посреди пустыни, или на помосте посреди базара, или на сцене любого народного театра; Кон оставил свое любимое детище. Кон вручил «Комедию характеров» ее собственной судьбе.
Зал гудел. В зале шептались все громче; раздались несколько хлопков, шиканье, кашель, снова шиканье… «Тихо вы!» — «Тоже мне, театралы…» — «Это невыносимо!» — «Что вы понимаете, это же Кон!» — «Что вы понимаете в искусстве…» — «Да что вы понимаете!»
Женщина в черном не понимала ничего. И одновременно понимала все — только что теперь делать с этим пониманием?..
В глубине режиссерской ложи обозначился узкий прямоугольник света, а когда пропал, ложа была пуста.
Женщина в черном не ощутила злорадства.
В антракте среди публики случилась едва ли не драка. Гардеробщицы, на глазах бледнеющие, выдавали одно пальто за другим. Корреспондент вечерней газеты что-то быстро наговаривал в трубку мобильника; женщина в черном спустилась в партер, подошла к самому краю сцены и тяжело уставилась в опустившийся бордовый занавес.
На самой кромке сцены, на покрытой лаком деревянной планке были выцарапаны, будто иголкой, несколько слов. Женщина не сразу заметила их, а заметив, вздрогнула, болезненно сощурилась…
Грета, зайди в гример…