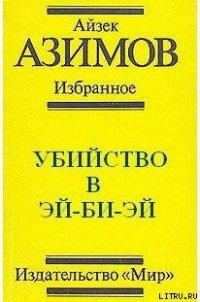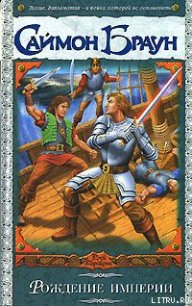Гномон - Харкуэй Ник (читать полностью книгу без регистрации TXT) 📗
В моем распоряжении были четыре стены и потолок, на которых нужно выписать императорский двор таким, каким он был в лучшие дни. Нужно запечатлеть умирающих и спасти хоть частицу тех, кем они были, прежде чем агония переписала их ликами Чистилища.
Только когда я принялся рисовать — удерживая в памяти дружественные линии, игру света и тени на подбородке толстяка или бедрах служанки, — оказалось не важно, насколько я сосредоточился на этой цели. Все равно выходили ничтожные, дикие образы, принесшие мне бесполезную славу. Акула была повсюду, крошечная и огромная, игривая и чудовищная. Ужаснее всех оказался один из самых маленьких набросков: он будто выглядывал из стены и следил за каждым моим движением, как положено портретам, хотя такого эффекта я никогда не видел прежде; будто ухватил истинную сущность хищной жестокости и казни, закрепил ее в своей маленькой камере, а теперь заперт в ней с личным memento venatoris [48]. Мои руки мне не принадлежали. День за днем я выбрасывал карандаш в отчаянии от постоянных неудач, но каждый день, когда тюремщики приходили, чтобы сломать мне очередной палец, они приносили новый огрызок. Иногда это был художественный уголь, иногда — мягкий графит, лишь бы меня, избитого, дрожащего, покрытого пятнами пота и неизбежной от резкой боли мочи, снова и снова тянуло пробовать и терпеть поражение. Они приучали меня к сочетанию поражения и боли, приучали мучить самого себя. Я не мог остановиться, каждая новая попытка пополнила диковинную мозаику на стенах и потолке, пока моя камера не стала лучшей работой, какую я нарисовал за всю жизнь. Причудливее всего была многоокая женщина, смотревшая на меня сверху, а мой образ спрятался в углу, но его поднимали вверх три других, будто на какой-то библейской сцене в церкви.
Однажды утром ко мне пришел хирург, его лицо было мрачным. Он сообщил, что мое дело тщательно пересмотрено в свете ужесточения политики по отношению к рецидивизму среди вышедших на волю политических заключенных. Ему очень жаль, что мое заключение продлилось так долго. Он сам восхищался современной сложностью моих работ, смелым отказом от общепринятого — утверждению Африки над белым северо-западом, и ему было трудно меня мучить. Ему кажется, что здесь, в тюрьме, я очистился от внутренней скверны, скорее всего, от внутренних противоречий между моим искусством и моими же замшелыми политическими взглядами. И если бы меня сейчас выпустили, я бы стал образцовым гражданином и решительным сыном прогресса. Мой дар, по его словам, заключался в том, чтобы представлять видимыми скрытые истины, которые я безошибочно видел внутренним, художественным взором, — такое великое дарование нелегко отбросить. Тем не менее революция не знает полутонов, и этого его убеждения самого по себе недостаточно, чтобы меня освободить. Он глубоко сожалеет, что управляющий совет тюрьмы постановил меня ликвидировать. Итак, мне предстояло умереть в Алем-Бекани по распоряжению правительства, которое ничего обо мне не знало, в наказание за преступное рисование портрета. Казнь назначили на конец месяца, поскольку это была ближайшая подходящая дата.
Он ушел, чтобы я смог взять себя в руки, но я слегка обезумел. Это было невыносимо — невообразимо — услышать, что я расстанусь с жизнью лишь потому, что система руководствуется незамысловатой таксономией. Осознание того, что я умру, захватило меня целиком. День за днем я играл в смерть, чтобы приготовиться, словно в бесконечном повторении смог бы каким-то образом переметнуться на другую сторону, стать не трупом, а самой смертью, и так пережить самого себя. Я лежал на койке и воображал, что мой час пришел, я уже в предсмертной агонии на пыточном столе или кашляю, потому что сломанные ребра пробили мне легкие. Я умирал от голода или жажды, меня расстреливали, и я чувствовал, как горячие пули разрывают мое сердце. Я умирал, плакал и умирал снова, и снова, и снова, пока жизнь не стала невыносимой мукой, и я пожелал, чтобы день казни пришел поскорее. Наконец однажды утром что-то во мне сломалось и уже не могло срастись, а иллюзия, будто мое соучастие способно переменить факт смерти, улетучилась. Тогда, за две недели до срока, я понял, что должен спастись, бежать любой ценой, а поскольку обычными средствами выбраться из Алем-Бекани невозможно (точнее, уйти оттуда можно лишь с помощью взятки или личной услуги, а у меня не было возможности ни дать взятку, ни попросить об услуге), мне придется выбрать нехоженую тропу. С лихорадочной уверенностью я решил, что должен пройти сквозь стены, а для этого нужно сделать стены своими, присвоить их. Нужно покрыть их рисунками, собой самим, завершить картину, которая долго зрела во мне и рвалась наружу. Так я получу власть над материей и временем, получу свободу. Я собрал огрызки карандашей и принялся за работу, а когда пришли тюремщики, почти равнодушно протянул им руку, чтобы они могли сделать свое дело, но оказалось, что комитет смягчил наказание, и вместо тисков они принесли кисти и тюбики с краской, взятые в моей же мастерской.
Я не спал или, быть может, не просыпался. Я работал и работал, чувствовал, как растворяюсь в кисти, краске, камне. Даже раздавленные пальцы проявляли гибкость, когда я укрывал своими грезами заклепки на двери камеры; когда искажал перспективу, чтобы выписать на потолке усыпанный звездами купол и выявить милосердный лик богини-матери из многоглазого ужаса, который нарисовал в первом порыве.
Мне сказали, что дни идут, спросили, не позвать ли священника, а потом ушли, когда я расхохотался. Неужели они думают, что священнику было бы что сказать в такой камере? Тюремщики уже боялись в нее заходить. Говорили, что иногда, когда все же входили, они несколько минут не могли найти меня внутри, хотя комнатка была всего три метра в глубину. Говорили, что иногда не могли выйти, будто заблудились, словно узоры на стенах бездонные и реальные. Стало понятно, что, когда придет время, меня не выведут на плац, а просто застрелят снаружи, и потом будут поливать стены из шланга, пока краска не сойдет.
Вечером перед казнью мне принесли вина, и я смешал его с крапп-мареной, чтобы нанести последние мазки на восточную стену. Затем допил остальное и лег на пол. Я потянулся к нарисованному небу космических ракет и к благодатным ангелам на стенах, к грезе об эпохе свершений, и взмолился.
Я лежал на полу в Алем-Бекани, тюрьме, которую называют «Прощай, мир», потому что она — врата смерти, и вдруг ощутил грани лучших врат.
Сейчас я тянусь к этим вратам, к этой двери, ведущей в иное пространство; не той, через которую мы вошли, — хоть они, конечно, занимают одно и то же место в пространстве. Я старик, одуревший от жара и дыма. Я молодой художник, сходящий с ума от страха смерти. Я маг, чародей, фокусник, и это — мой единственный трюк. Я чувствую плотность двери в кипящем воздухе своей камеры. Ощущаю ее прохладу, безопасность за порогом.
Я слышу собственное дыхание. Никто другой не может этого сделать. Если я прав, то всех нас спасу. Если нет, мы умрем сейчас, а не через десять минут.
Я слышу вопли и стоны других в Алем-Бекани. Я их слышал вчера и буду слышать завтра, на протяжении всей проклятой истории этой тюрьмы — гнусной, кровавой и ненужной. Никто другой не может так сделать, и в этом мой стыд. Я должен пойти из камеры в камеру и освободить всех. Но что, если существует предел силам моей души? Вдруг я могу унести с собой лишь нескольких? Только себя?
Что, если я могу унести лишь нескольких?
Тогда сперва пойдет Энни. Потом Колсон. Затем я.
Имею ли я право сделать ставку на безумие старого беженца?
Есть ли у меня хоть какой-то шанс, если не сделаю? Мои руки тогда были намного сильнее, а тело красивым. Я бы себя сейчас с удовольствием нарисовал, если бы мог вспомнить, каким я тогда был. Я бы поставил зеркало в мастерской и писал собственное тело на холсте, чтобы дивиться ему как чуду.
Я чувствую эти мускулы, призрачную плоть на сильных молодых костях. Эти руки держат дверь.