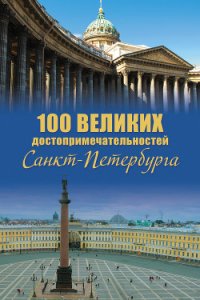Программист в Сикстинской Капелле (СИ) - Буравсон Амантий (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
— Синьоры! — крикнул я. — Прошу, впустите этого парня!
— С чего вдруг мы должны вас слушать, синьор? — холодно спросил меня помощник директора. — Я вас первый раз вижу.
— Да, вы вообще кто?! — возмутился будущий «оперный Юпитер», показав на меня пальцем. — Местный солист? Увольте, я с этим привидением петь не буду!
— Синьоры, Алессандро Фосфоринелли солист Сикстинской Капеллы, — вступился за меня Карло. — И тоже инженер, как я. А ещё он мой друг, чьё мнение я уважаю и прошу прислушаться к нему.
— Хорошо, синьор Фосфоринелли. Вы знаете этого дерзкого юношу? Кто он таков и по какому праву смеет врываться в театр в таком виде?
— Прекрасно знаю. Это Гаэтано Майорано, лучший ученик маэстро Порпоры. Он приехал принять участие в спектакле Доменико Сарро.
Кассини и Альджебри переглянулись. Никак, наверное, думают, Алессандро стал ясновидящим.
— Откуда вы меня знаете? Шпионы или наёмники что ли?! — вытаращив глаза, вопросил Гаэтано.
— Вас это не касается, синьор, — спокойно ответил я. — Скажите спасибо, что мы вообще здесь оказались, иначе пришлось бы вам плохо.
— Ничего не знаю, — проворчал директор. — Где сопроводительное письмо?
— Вместо сопроводительного письма будет небольшой экзамен, — отвечаю я. —
Синьор Майорано, если это и вправду вы, то прошу вас сейчас же, без промедления, спеть десятое упражнение из «листка Порпоры».
У бедняги при этих словах челюсть отвисла.
— Вы откуда про «листок» знаете? Маэстро его никому не показывал, кроме меня.
— Объяснения сейчас неуместны. Лучше сделайте то, что я прошу, иначе Италия лишится «золотого голоса», а вы встретите старость на паперти или в тюрьме.
Гаэтано, видимо, испугался, потому что не посмел меня ослушаться и спел всё упражнение с начала и до конца. Лишь услышав первую ноту, я понял: передо мной гений. Признаюсь, такого голоса я не слышал никогда и, скорее всего, больше не услышу. Его техника была настолько отточенной и совершенной, а тембр настолько идеально ровным и выразительным, что я мысленно (не без белой зависти) снял перед ним шляпу. Хотя, думаю, в том, что я услышал, больше заслуга маэстро Порпоры.
Надо сказать, Каффарелли заставил меня вспомнить юных олимпиадников из кружка программирования, сотнями щёлкавших сложные задачи, в то время как я десяток за один раз едва мог осилить. Я пришёл в этот кружок по знакомству, будучи уже студентом, разочарованным университетской программой, и, как следствие, выглядел старым дураком в глазах способных юношей и девушек десяти-пятнадцати лет, занимавшихся в кружке с детского сада. Правда, через пару лет я таки дорос до их уровня и даже помогал новичкам с решением, тем не менее, комплекс старого болвана засел глубоко в подсознании.
— Брависсимо! — в восторге воскликнул директор. — За всю свою жизнь я не слышал ничего более прекрасного! Заоблачный голос и ничем не уступающая техника. Узнаю школу маэстро Порпоры.
— Убедились? Теперь впустите его в здание театра, до премьеры всего ничего, — обратился я к директору.
— Я бы рад теперь впустить синьора Майорано, но спешу вас огорчить, синьор: предпоследняя репетиция закончилась ещё час назад. Завтра состоится генеральная.
— Подумаешь, я вообще могу спеть без репетиции. Арии я учил, остальное в руках гения импровизации.
— Надеюсь, что это так, — ответил я. — Однако, в следующий раз на репетиции не опаздывайте, синьор. Не то ваше место займёт Карло Броски.
— Ни за что! Не позволю никакому Броски занять место «лучшего певца в мире», как выразился мой учитель.
— Прекрасно. С вашего позволения, мы откланяемся, — я собирался уже уходить, мои товарищи уже ждали меня на улице.
— Стойте! А я? Куда я пойду? Я же не виноват, что этот старый хрыч Сарро сбежал как крыса с корабля и бросил меня в беде!
Позже выяснилось, что Гаэтано пару недель назад выехал из Неаполя в карете вместе с Доменико Сарро и по дороге так достал композитора, что тот в конце концов «забыл» невыносимого певца в гостинице. Гаэтано не растерялся: взяв коня, он один отправился в Рим. Однако сопроводительное письмо, выданное в Неаполитанской Консерватории, потерялось по дороге.
— Снимите номер в гостинице рядом с театром, говорят, там клопов не так много, — не без сарказма предложил я.
— Ненавижу клопов! — заныл Гаэтано. — Без них что, совсем нельзя?
— Алессандро, прекрати издеваться над бедным мальчиком, — услышал я из дверей мягкий голос Доменико. — Если хочешь, Танино, можешь остаться на пару дней у меня.
«Этот Доменико скоро поселит у себя дома пол-Италии, — я закатил глаза. — Нельзя быть таким добрым, этак все только сядут и поедут». Отведя Доменико в сторону, я тихо сказал ему следующее:
— Хорошо подумай, Доменико, прежде чем приглашать очередного virtuoso к себе на постой. Как бы Эдуардо своим ножичком не прикончил великого гения. Он же таких, как мы, терпеть не может.
— Не прикончит. Для этого ему придётся поступиться принципами и вылезти из комнаты. А это значит — спор проигран.
— Какой спор?
— Я поспорил с Эдуардо, что, если он нарушает своё обещание и выходит из затвора, то я заставлю его посещать твои уроки математики. А он этого делать точно не будет.
— Гениально. Тогда, думаю, имеет смысл запереть Эдуардо в его комнате, а Гаэтано — в чулане.
— Почему в чулане?
— Потому что в чулане нет бьющихся вещей.
— Ах, ты опять напоминаешь мне о том случае! Что ж, тогда поселим яростного Танино в одной комнате с неистовым Алессандро. Там тоже нет бьющихся вещей.
— Отлично, пиши оперу «Полиник и Этеокл»*.
— Чур, Антигону буду петь я, — засмеялся Доменико, но затем стал серьёзен. — Всегда мечтал об этой героической роли.
— Ты с ума сошёл, Доменико, — вздохнул я. Вот честно, не понимаю: парень мечтает о женской роли. Мне этого было не понять, и я чувствовал себя каким-то устаревшим занудой.
Хотя, с такой внешностью, как у тебя, Доменико… Думаю, в двадцать первом веке ты занял бы первое место на конкурсе красоты. Не то, что юноши, девушки могли бы позавидовать твоему изяществу и грациозности. Твои светлые, рыжие волосы в сочетании с прямым благородным носом, тонкой линией губ и правильными, аристократичными чертами лица производят весьма сильное впечатление. Ещё во время нашего первого урока я обратил внимание на руки Доменико: тонкие, изящные пальцы (два из которых на правой руке были украшены золотыми, а на левой — серебряными перстнями) контрастировали с выступающими венами, наверное, из-за постоянной игры на клавесине…
— Так мы идём куда-нибудь или нет? Мне что, в театре ночевать? — услышал я капризный голос Каффарелли.
— Идём, мой мальчик. Сейчас только Алессандро к нам вернётся из объятий Морфея.
— Да он так выглядит как будто из объятий Персефоны только что!
— Я не спал, — сухо ответил я. Правда, пора уже заканчивать с этими глупыми мыслями. Если Доменико девушка, я рано или поздно всё равно об этом узнаю. Он сам выдаст себя своими поступками.
Делать нечего, пришлось брать «почётного гостя» с собой в Капеллу, где он изрядно испортил всем нервы.
После вечернего богослужения мы отправились домой. Я всю дорогу молчал, злился на Доменико за то, что он связался с этим невыносимым человеком. Гаэтано по дороге пародировал старика Ардженти, изображая приступы радикулита и завывая трясущимся голосом, затем он переключился на остальных хористов. В изощрённости обзывательств и прочих эпитетов он переплюнул местного шута Спинози. Досталось всем, за исключением, как ни странно, Доменико, который, сославшись на плохое самочувствие, сегодня не пел, передав «эстафету» Энрико Роспини.
Когда мы вернулись в дом Кассини, нас встретила синьора Катарина:
— Наконец-то вы пришли, я как раз испекла пряники с изюмом (как я позже узнал, любимое лакомство Эдуардо).
Синьора усадила нас за стол, а сама удалилась в свою комнату, должно быть, она уже поняла, какого монстра мы притащили в дом. Каффарелли, не подождав, пока старшие сядут за стол, набросился на пряники. Наверное бедных студентов в этой Неаполитанской Консерватории голодом морили.