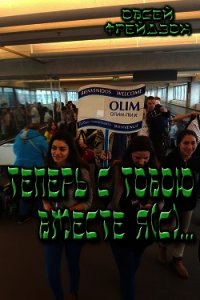Аид, любимец Судьбы. Книга 2: Судьба на плечах (СИ) - Кисель Елена (книги бесплатно TXT) 📗
Кого я спрашивал? Прях?! Или ту, к которой никогда прежде не обращался сам? Эта не ответила. Зато Клото бросила пару свистящих словечек сквозь зубы (из словечек следовало, что отцом Лахезис был больной рахитичный ишак, язык которого вытягивался на два полета стрелы) и повернулась ко мне, и голос ее был на диво похож на голос из-за плеч.
На голос той, кто породила ее.
– Ох, дурак, ох, дурак. Невидимка… да неужели ты думал, что ты – первый и единственный?! Что такое – тебе одному?! Вы ж только гляньте – ось мира нашлась, хотя куды там ось – пупок!
Я почти не слышал, поднимаясь со своего места на перекрестье взглядов и делая слепой шаг вперед. Шел – в пламя Тифона и воды Стикса одновременно.
– Кто они?
– А какое тебе до них дело, невидимка? Были, теперь нет. В поколении только один такой случается. Теперь вот – ты любимчик, тебе и расхлебывать, а что за интерес…
Мойра осеклась – надо полагать, озадачилась при виде моего лица.
– Кто они?!
И тут Атропос, коротко хихикнув, дернула за что-то в своем клубке – и стало неважно.
Вообще ничего стало неважно, кроме холодного, шершавого, пыльного пола, восхитительно настоящего, потому что когда тебя выдергивают из тела, когда рвут по живому каждую клетку твоей сути, когда вокруг нет ничего и никого, и вся твоя жизнь – это только туман асфоделей…
В такие минуты важен холодный пол, на который можно опереться щекой и слышать, как отдается биение крови в твоем виске, чувствовать, как набухают и падают из губ капли ихора и собираются маленькой потешной лужицей, и видеть, как медленно вершит свой путь полосатый жучок, слышать…
– Спорим – если водой поплескать, то очухается?!
– Да могу фибулу любимую поставить – он сейчас очухается без всякой воды. Атропка, ты за какую из нитей дергала?
– Стой, не говори, Атропос, я сейчас… черная!
– Нет, красная!
– Спорим?!
– Да замолчите вы, квочки, не смотрела я, за что дергать, что попалось под палец – за то и рванула. Унялись?
Тихонько, нежно постукивают глиняные черепки. Это Лахезис достает их из бездонного сосуда, деловито крякая и каждый раз запуская руку в сосуд по локоть. Нити под пальцами Клото-пряхи тихо поют, и сама Пряха мурлычет в тон старую песню, из дальних далей памяти:
Мужа с пира жена зовет –
Заплутал средь хмельных друзей.
Плачут дети, угас очаг:
Возвращайся, хозяин, в дом…
Блеют овцы в твоем хлеву,
Осыпает твой сад плоды,
Остывает твоя постель –
Возвращайся, хозяин, в дом…
Ожидают, не спят рабы,
Плачет, путает пряжу мать,
Под воротами воет пес:
Возвращайся, хозяин, в дом…
Песня бесконечна, это я помню еще со времен своего заточения в Кроновой утробе: сперва долго будет перечисляться разруха, наступившая в хозяйстве без господина, потом так же долго – радость после его возвращения.
И хочется по привычке сомкнуть глаза, окунуться в родную тьму, почувствовать на плече ладошку Гестии…
Только не слышать больше крик своей нити под чужими пальцами.
– Чем ты меня? – просипел я, садясь. Адамантовые осколки больше не ранили грудь изнутри. Были другие, с кем Ананка еще разговаривала? Ну, были. Не могла же она вечно со мной болтать. А что она им нашептывала – мое-то какое дело?
От пузатого сосуда долетел стон Лахезис: наверное, успела проиграть какой-то еще спор. Атропос посмеивалась под нос и выщелкивала ножницами мелодию.
Веселую до отвращения.
– Пальчиком. Легонечко. Я так, я шутя, ты ж сказал, тебе любопытно, ну, прости старушку, подарочек сделать хотела, показать, как смертные себя чувствуют, когда…
Щелк! Клац! – ножницы лязгнули зубастой волчьей пастью.
– Спасибо хоть – ножницами не резанула – отозвался я и отлип от пола.
В глазах огненным и черным плыли тысячи нитей, которым полагается быть разноцветными. Вместо этого огненные всполохи перетекали в тьму, потом тень гасила пламя…
А мойра в глазах не плыла. Атропос так и сидела над бесконечным движущимся полотнищем, чуть сгорбившись и склонив голову набок. Сухие щечки довольно горели. Глаза – волчьи, золотые, щурились, а пальцы словно жили своей жизнью: перебирали, ползали среди нитей, временами даже как будто подергивали, выхватывали покороче и подлиннее.
– Ух ты, синяя какая попалась, сильно море любил, только пора уже, пора, зажился маленечко… а этот молодой, но война – это война, это да, а эти вообще что тут делают? Давно обрезаны, из-за Сизифа этого сплошная неразбериха, что застыл, любимчик? Подходи, сам говорил, интересно, не боись, не резану, бессмертных моих ножницы не берут – пока они бессмертные, то есть, иди, иди, глянь, что ты наворотил…
И ткнула в переплетенный пук мощных, длинных нитей, висевший в воздухе у левого ее локтя. Золотые, серебряные, солнечные, рубиново-красные и сапфировые, они переплетались и обвивались друг вокруг друга безумствующими змеями, от больших нитей отходили тонкие, малые, цеплялись за них весенним плющом.
Нити вились в бесконечность и уходили в угол комнаты, где скрывалось начало полотна, в котором, если пошарить, можно найти нить самого Урана, а может, и самих Прях. Нити теснились от величия, и никакого труда не составляло увидеть в серо-стальной, с льдистым отливом – глаза Афины Мудрой, в червонно-золотой – нежный профиль Афродиты, в той, пульсирующей от переизбытка силы и бирюзовой – мощные плечи Посейдона… Яростный крик Ареса – в кроваво-красном; теплый оранжевый огонек Гестии; надменный павлиний окрас Геры; обманчиво спокойная зелень Деметры и среди них…
Алый и черный, ну конечно.
Чего еще я ждал?
Нить таилась за остальными и была не видна, только потом Клото отгребла в стороны другие, и проступила эта, одинокая.
Добро б еще цельная нить, а то будто из кусков слепили.
Вначале – прозрачная. Потом – ало-багряная, как раскаленные угли, потом с черными вкраплениями, а дальше нить и вовсе вела себя непристойно: она раздваивалась. Алая и черная половинки по временам сменяли друг друга: одна становилась призрачной, одна вилась дальше, и от этого нить казалась вдвойне дурацкой, прерывистой какой-то.
В конце нить сходила в глухую призрачность – чем дальше, тем более прозрачная, лезла угол над потолком и там терялась в расплывчатой дымке, через которую ничего нельзя было рассмотреть.
Мойры дружно вытянули шеи, забросив на время дела. Клото ухитрялась румянить дородные щеки. Свеклой. Попутно от этого же кругляша свеклы и откусывала в порыве азарта: ну?! что скажет гость на диво такое?!
– Ну и… – ругательств у меня не нашлось, только рукой махнул. Лучше б такое не видеть. – Что она красная такая?
Судя по тому, как скисли все три Мойры, не выиграл никто.
– Потому что пирожок, – прилетело от Лахезис. – Любимчик, нам-то откудова знать? Твоя нить – тебя спрашивать надо!
Наверно, когда видишь собственную нить, чувствуешь себя обнаженным, раскрытым нараспашку, только вот этого нет: есть свитая пряжа перед моими глазами, странная, разноцветная, узловатая и жесткая, временами цепляющаяся за другие нити.
И цеплялась она странно. Нити остальных оборачивались друг вокруг друга – и шли потом дальше.
А здесь были узлы.
Первый – в самом начале, мертвый и тяжелый, огненная нить завязалась с тускло-серой, нерушимой, адамантовой. Я тронул этот узел пальцем. Знал, что услышу: шелест железных крыльев, «бездарно дерешься», свист самого знакомого в мирах клинка.
Теплая, оранжевая, легкий узелок – это, наверное, Гестия; невесомая серебристая – Левка; бирюзовая и сверкающая будущим величием молний… я не стал касаться тугого сплетения трех нитей. Клятвой на Жертвеннике мы все связали себя хуже любых цепей.