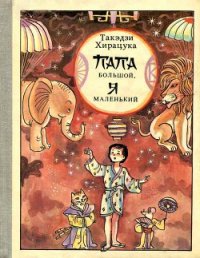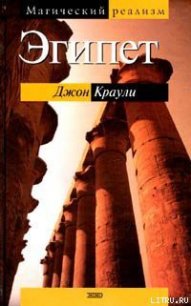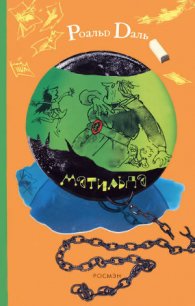Маленький, большой - Краули (Кроули) Джон (читать хорошую книгу txt) 📗
— Что там?
— Тебе понравится. — Она помедлила у поворота. — Только бы не заблудиться… Туда!
Она указывала на пустое место: перекрестие сводов, где встречались четыре коридора.
— Что?
— Пошли. — Взяв за плечи, Сильвия направила его в угол, где опускалось на пол ребро свода, образуя подобие тесной щели, но это были всего лишь кирпичи, сходившиеся под углом. Она поставила его лицом к этому стыку.
— Стой здесь, — скомандовала она и пошла прочь. Покорно уткнувшись в угол, Оберон стал ждать.
И тут прямо из угла, глухой и призрачный, зазвучал голос Сильвии:
— Привет.
Оберон был поражен до глубины души.
— Что такое, — проговорил он, — где это…
Ш-ш, — произнес голос Сильвии. — Не оборачивайся. Говори тихо. Шепчи.
— Что это? — шепотом спросил он.
— Не знаю. Но если я стою здесь и шепчу, ты слышишь мой голос там. Как это получается, не спрашивай.
Загадка! Сильвия как будто обращалась к нему из пространства внутри угла, через щель неправдоподобно узкой двери. Акустический свод: что-то на эту тему имелось, помнится, в «Архитектуре»? Вполне вероятно. Эта книга говорила почти обо всем.
— Ну вот, — произнесла Сильвия. — Скажи мне какой-нибудь секрет.
Оберон немного помедлил. Уединенность угла, бестелесный шепот — все располагало к откровенности. Он чувствовал себя раздетым, или что его могут раздеть, хотя сам он ничего не видел: эдакий вуайер наоборот. Он сказал:
— Я тебя люблю.
— О, — выдохнула она взволнованно. — Но это же не секрет.
Отчаянный прилив тепла побежал вверх по его позвоночнику и заставил волосы на голове встать дыбом: ему пришла идея.
— Ладно, — согласился он и рассказал о тайном желании, которое не осмеливался ей открыть раньше.
— Ну и ну! — откликнулась она. — Да ты сущий дьявол.
Оберон повторил свои слова, добавив несколько деталей. Он мог бы шептать их Сильвии в ухо темной ночью в кровати, но сейчас обстановка была еще уединенней, еще интимней: слова поступали прямо в мозг. Между ними кто-то прошел, Оберон различал шаги. Но прохожий не мог слышать его слов. Оберона охватила дрожь ликования. Он добавил еще несколько фраз.
— М-м, — произнесла Сильвия, словно ожидая большого блага, и Оберон не мог не отозваться на этот краткий звук таким же. — Эй, чем ты там занят? — В ее голосе прозвучала игривая нота. — Скверный мальчишка.
— Сильвия, — шепнул Оберон. — Пойдем домой.
— Да ну?
Они отошли от своих углов (каждый казался другому очень маленьким и светлым, после темной интимности перешептывания) и встретились в центре. Они смеялись, прижимались друг к другу так тесно, как только позволяли плотные пальто, и, не переставая улыбаться и переглядываться (бог мой, подумал Оберон, ее глаза такие яркие, горящие, так много сулят — такие бывают в книгах, но никогда в жизни, и она принадлежит мне), сели в нужный поезд и покатили домой среди погруженных в себя попутчиков, которые на них не смотрели, а если все же замечали краем глаза (думал Оберон), то уж никак не догадывались о том, что известно ему.
Секс, как обнаружил Оберон, был поистине грандиозен. Грандиозная вещь. Во всяком случае, в исполнении Сильвии. В Обероне всегда существовал разрыв между глубокими желаниями, ему присущими, и холодной осмотрительностью, которая, как он считал, требуется во взрослом мире, куда он явился жить (иногда ему казалось, что по ошибке). Сильные желания представлялись ему признаком детства; последнее он (судя по своим самым ранним воспоминаниям, да и по рассказам других людей) видел охваченным мрачным пламенем, отягощенным бурными страстями. Взрослые все это оставляют позади и обращаются к привязанностям, к спокойным радостям товарищества, обретают младенческую невинность. Он осознавал фатальную старомодность этого взгляда на вещи, но так уж он чувствовал. Когда выяснилось, что желания взрослых, настоятельность и острота этих желаний держались от него в секрете, как и все остальное, он не удивился. Он не подумал даже возмутиться тем, что его так долго обманывали, ибо с Сильвией он научился иному, раскрыл шифр, вывернул предмет наизнанку, обратив его лицом наружу, и загорелся. Оберон не пришел к ней девственником в строгом смысле слова, но вполне мог бы им быть. Ни с кем другим не делился он этой ненасытной алчбой бедного ребенка, никто так не алкал его и не поглощал так благодушно, с таким наивным удовольствием. Этому не было ни конца, ни ограничений: если он хотел еще (он обнаружил, что в нем развивается удивительная, стойкая плотность желания), то получал. А то, чего ему хотелось, он так же жаждал дарить, а она — принимать. Все было так просто! Нельзя сказать, что правил не существовало: они, как в детских спонтанных играх, имелись, строго соблюдались, но только до поры до времени, пока не возникало желание со вкусом отдаться другой игре. Оберон помнил Черри Лейк — чернобровую властную девочку, с которой когда-то играл. Где прочие его товарищи по играм говорили: «Давай вообразим», она неизменно использовала другую формулу: «Мы должны». Мы должны быть плохими мальчишками. Я должна быть пленницей, привязанной к дереву, а ты должен меня спасать. Теперь я должна быть королевой, а ты — моим слугой. Должен! Да…
Сильвия как будто знала все это всегда, всю жизнь. Она рассказывала Оберону о том, как испытывала в детстве незнакомые ему стыд и неловкость, потому что понимала: все эти веши — поцелуи, раздевание вместе с мальчиками, наплыв чувств — предназначены на самом деле для взрослых; она познакомилась с ними позже, когда подросла, обзавелась грудью, высокими каблуками и косметикой. Сильвия не чувствовала того разделения, которое чувствовал Оберон. Когда ему сказали, будто мама и папа любили друг друга так сильно, что, желая завести детей, занялись этими детскими пакостями (так ему казалось), он не мог связать эти рассказы (которым не очень то и поверил) с тем мощным приливом страстей, который испытывал при виде Черри Лейк, некоторых фотографий и во время безумных игр голышом. Сильвия же все время знала истину. Какие бы жуткие — и многочисленные — трудности ни ставила перед ней жизнь, эту, по крайней мере, она считала решенной. Вернее, никогда не вставала перед ней в тупик. Любовные чувства реальны, так же реальна и плоть, и любовь и секс в ней едины, как уток и основа, неделимы, как бесшовная ткань ее душистой коричневой кожи.
Хотя, в абсолютных цифрах. Сильвия была не более опытной, чем Оберон, из них двоих лишь его одного поражало, что это потворство желаниям, как у алчного ребенка, оказалось тем самым, что делают взрослые, более того — самой взрослостью; торжественное блаженство силы и способности, а также детское блаженство нескончаемого удовлетворения. Это была мужественность, женственность, заверенные самой живой печатью. Papi — звала она его в экстазе. Ay Papi,уо vengo. [33] Папи! Не дневной папо, а крепкий ночной папа, большой, как platano [34], и отец наслаждения. Эта мысль едва не заставила его подскочить (Сильвия жалась к его боку, головой как раз достигая плеча), но он не замедлил своего размеренного, широкого, взрослого шага. Справедлива ли была его догадка, что, когда он шел с Сильвией, мужчины чувствовали в нем силу и уступали ему, а женщины исподтишка бросали на него восхищенные взгляды? Почему их с Сильвией не благословляли все, кто встречался по дороге, — даже кирпичи, даже белое чистое небо?
И Оберон этого дождался: когда они сворачивали на улицу, где был вход на Ветхозаветную Ферму. Во всяком случае, когда они чуть помедлили, что-то произошло. Вначале он подумал, что это произошло внутри него — апоплексический удар или сердечный приступ, но внезапно понял: это творится вокруг. Оно было огромным, похожим на звук, но не звуком; словно бы обрушилось строение (рассыпался в пыль целый квартал, не меньше, квартир из голого грязного кирпича или оклеенных обоями) или грянул гром, да такой, от которого небо раскололось бы надвое (но оно, как ни странно, оставалось чистым и по-зимнему белым), а может быть — произошло и то и другое одновременно. Схватившись друг за друга, Оберон и Сильвия остановились.
33
Ах, папи, я в улете (исп. жарг.).
34
Банан (исп.).