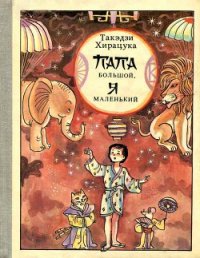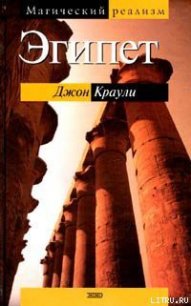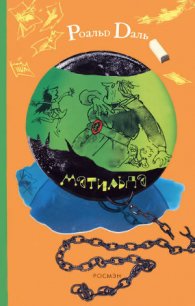Маленький, большой - Краули (Кроули) Джон (читать хорошую книгу txt) 📗
Сильвия приводила Оберона в чистые, но тесные квартирки своих родственников, где его усаживали на пластиковую заморскую мебель, подавали на блюдечке стаканчик содовой без льда (ни к чему вгонять человека в озноб — думали они) и несъедобные dulces и похваливали по-испански. По их мнению, он был хороший муж для Сильвии, и хотя Сильвия отвергала это почетное наименование, его, ради приличий, продолжали употреблять. Оберона сбивало с толку обилие уменьшительных форм, звучавших однообразно для его непривычного уха. Одна ветвь семьи, включавшая в себя черную «ненастоящую» тетю, Негру, которая прочла в свое время Судьбу Сильвии, именовала ее Тати — причину чего помнила Сильвия, но Оберон всегда забывал. В устах одного из детей Тати преобразовалось в Тита, каковое имя тоже прилипло и, в свою очередь, стало звучать как Титания (пышное уменьшительное). Часто Оберон не понимал, что героиней анекдотов, рассказанных на шумно-веселом испано-английском, была его собственная возлюбленная.
— Ты им очень понравился, — сказала Сильвия на улице после очередного визита, глубоко засунув руку в карман его пальто (так она грелась).
— Они тоже очень милые…
— Но, раро, меня прямо передернуло, когда ты водрузил ноги на эту… esta [31] штуку — кофейный столик.
— Да?
— Это никуда не годится. Все обратили внимание.
— Так какого же дьявола ты промолчала? — спросил он растерянно. — Я хочу сказать, дома у нас принято ложиться на мебель и… — Он осекся и не сказал «и это настоящая мебель», но она и без того догадалась.
— Я пыталась тебе намекнуть. Я на тебя смотрела. Не могла же я заявить вслух: эй, сними ноги. Они бы решили, что я обращаюсь с тобой как Тити Хуана с Энрико. — Энрико был подкаблучник и посмешище. — Ты не представляешь себе, чего им стоило приобрести и эту уродливую обстановку, — добавила она. — Верь не верь, но она жутко дорогая, эта muebles. [32]
Они немного помолчали, согнутые в дугу жестоким ветром. Muebles, подумал он, «обстановка» — слишком официально звучит для таких людей.
— Они все психи, — проговорила она. — То есть некоторые психи из психов. Но остальные тоже психи.
Ему было известно, что Сильвия, при всей любви к членам своего разветвленного семейства, отчаянно старается освободиться от участия в той длинной, достойной времен короля Якова, трагикомедии, какой является их совместная жизнь, состоящая из сумасшествия, фарса, губительной любви, даже убийства, даже призраков. По ночам она часто ворочалась с боку на бок, испуганно вскрикивала, воображая ужасные несчастья, которые могли случиться в будущем или настоящем с кем-нибудь из этой невезучей компании. Оберон ее страхами пренебрегал, считая их обычными ночными кошмарами (с его семьей, насколько ему было известно, ничего «ужасного» никогда не случалось), меж тем как ее фантазия не столь отклонялась от истины. Сильвии не нравилось, что им вечно грозят опасности, не нравилось быть связанной с ними; ее собственная Судьба, как яркая лампа, светила среди их безнадежной неразберихи, их готовых сверзиться в канаву или погаснуть, но все же горящих огоньков.
— Мне нужно выпить кофе, — сказал он. — Чего-нибудь горячего.
— А мне нужно просто выпить, — подхватила она. — Чего-нибудь крепкого.
Как все влюбленные, Сильвия и Оберон не замедлили избрать себе те места, где попеременно (как на вращающейся сцене) разыгрывали свою драму: украинский ресторанчик с вечной испариной на окнах, с черным чаем и черным же хлебом; Складную Спальню, разумеется; обширный и мрачный кинозал, убранный в египетском стиле, где фильмы показывали дешево, меняли часто и сеансы шли до самого утра; магазин «Полуночная сова», бар и гриль «Седьмой святой».
Самым большим достоинством «Седьмого святого», помимо цен на напитки и близости к Ветхозаветной Ферме (одна остановка на поезде), было огромное переднее окно (практически от пола до потолка), где как на экране разыгрывалась жизнь улицы. «Седьмой святой», наверное, относился когда-то к роскошным заведениям: стеклянная стена была явно дорогая, роскошного коричневого оттенка, что делало зрелище еще более нереальным и затеняло интерьер, как темные очки. Похоже на пещеру Платона, говорил Оберон, а Сильвия слушала его пояснения, а вернее смотрела, как двигаются губы, завороженная его странным видом и не вдумываясь в слова. Ей нравилось учиться, но ее мысли блуждали.
— Ложки? — спросил он, поднимая ложку.
— Девочки, — сказала Сильвия.
— А ножи и вилки — мальчики, — продолжил он, уловив принцип.
— Нет, вилки тоже девочки.
Перед ними стоял кофе-ройял. За окном, на леденящем холоде, спешили с работы люди в шляпах, закутанные в шарфы; они кланялись невидимому ветру, словно идолу или могущественному владыке. Сильвия в это время уволилась с одной работы и не успела устроиться на другую (обычная неприятность для человека с такой высокой Судьбой, как у нее), а Оберон жил на свой аванс. Оба были бедны, но располагали временем.
— Стол? — спросил он. Ему ничего не приходило в голову.
— Девочка.
Не удивительно, подумал он, что она так сексуальна, если весь мир представляется ей состоящим из мальчиков и девочек. В ее родном языке всем понятиям присвоен род. В латыни (Оберон изучил или, во всяком случае, изучал ее с помощью Смоки) род существительного является абстракцией, которую он никак не мог прочувствовать. А вот Сильвия видела мир как постоянное взаимодействие мужского и женского, мальчиков и девочек. Мир, el mundo, мужского рода, земля, la terra, женского. Оберону это казалось правильным; мир дел и идей, название газеты, Огромный Мир; но мать-земля, плодородная почва, Госпожа Доброта.
Однако данного разделения явно недостаточно: эта волосатая метелка относится к женскому роду, но к нему же принадлежит и костлявая пишущая машинка Оберона.
Некоторое время они играли в эту игру, а потом принялись обсуждать прохожих. Поскольку стекло было тонировано, прохожие видели в нем не внутренность пещеры, а собственное отражение; иногда они останавливались, чтобы поправить одежду или полюбоваться собой. Сильвия критиковала обычных людей резче, чем Оберон; она была неравнодушна ко всякой эксцентричности и странностям, но придерживалась строгих стандартов физической красоты и носом чуяла смешное.
— О, раро, взгляни-ка на этот экземпляр, взгляни-взгляни… То самое, что я называю яйцом всмятку, теперь видишь?
Он видел, и она заливалась милым хрипловатым смехом. Сам того не сознавая, Оберон на всю жизнь усвоил ее стандарты красоты; ему даже начали нравиться те худые, смуглые мужчины с мягким взглядом и сильными запястьями, которых отличала она. Например, официант Леон, цвета кофе с молоком, который принес им напитки. Оберон почувствовал облегчение, когда, после длительных раздумий, Сильвия решила, что у них будут красивые дети.
В «Седьмом святом» шли приготовления к обеду. Уборщики косились на их грязный столик.
— Ты готова? — спросил Оберон.
— Готова. Линяем, пока целы. — Фраза Джорджа, старомодная двусмысленность, скорее с претензией на юмор, чем смешная. Они спешно собрались.
— На поезде или пешком? — спросил Оберон. — На поезде.
— Да, черт возьми.
Устремляясь к теплу, они по ошибке забежали в экспресс (полный похожих на овец и пахнувших овцами седоков, направлявшихся в Бронкс), который допер без остановок до самого старого вокзала, где его поджидала куча других поездов, готовых отправиться в разные места.
— Погоди чуток, — сказала Сильвия, когда они собирались сделать пересадку. — Хочу кое-что тебе показать. Да уж! Ты просто обязан это увидеть. Айда за мной!
Они шагали по переходам и взбирались по скатам — тем самым, где Оберона водил в первый раз Фред Сэвидж, но в том же направлении или нет — бог весть.
31
Эта (исп.).
32
Мебель (исп.).