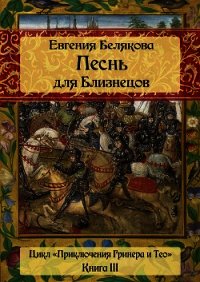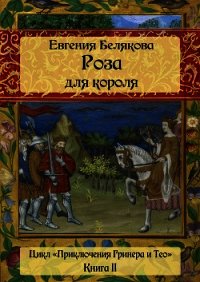Король-Бродяга (День дурака, час шута) (СИ) - Белякова Евгения Петровна (мир книг TXT) 📗
— Так они меня соврали?
— Да, деточка. Нехорошие люди.
А чем я лучше? Да ничем. Просто уверен в своей правоте и в ее… принадлежности мне.
— Откуда ты это фсе знать?
— Я был знаком с твоими настоящими родителями, — она порывисто вздохнула, и я предвосхитил ее следующий вопрос: — Они умерли, давно. Тебя украли работорговцы, отвезли на север, но там на них напали. Во время боя, судя по всему, ты получила сильный удар по голове и потеряла память. Потом, видимо, эти циркачи нашли тебя, приютили, так что не такие уж они и плохие, просто решили не травмировать ребенка. Да и детей им хотелось.
— Так… у меня никого не оставается?
Сказочка у меня получилась такая складная, что аж самому стало тошно; только вот в сказках девицы, узнав такие вести, начинают биться в истерике и требовать посещения могилы папы с мамой. Хил же только сжалась, и зябко повела плечами — но у меня сердце екнуло. Уж лучше бы она рыдала. Маленькая храбрая птичка.
Но уже через секунду я зарекся жалеть маленьких птичек. Потому что ее опущенная голова и дергающееся плечо — это были признаки раздумий. И как я мог забыть… Хил подняла на меня глаза, черные, как ночь, и тихо, но внятно сказала:
— И почему я должна ферить тебе, старик?
Я не размышлял ни минуты. Я просто запел на джамби, языке Хавира:
О, пустыня золотая, жарким зноем залитая
Даришь тем, кто умирает восхитительный мираж
Юркой змейкою сознанье покидает мирозданье,
Жизнь тебе — послушной данью не захочешь, да отдашь
Здесь что в солнце, что в ненастье медленной голодной пастью
Дюны тянутся со страстью ко всему, что может жить
Пусть проходит время мимо — тихо, неостановимо
подойдут неуловимо, чтобы влагу иссушить.
Отдохни. Мы все здесь — гости, ветер зло бросает горсти
На белеющие кости — кто ошибся, тот остыл.
Тихим шорохом песочным, жарким ветерком восточным
Шепчет нам о сладкой ночи голос демона Пустынь.
Боль и отчаянные попытки вспомнить, на ее лице, словно целиком состоящем из слез. И в то же время — ярость… злость. На память, на Судьбу. Как же она в этом похожа на меня. Я закончил петь, и по выражению ее глаз понял, что добился своего, значит, сердце в который раз правильно мне подсказало.
— Майниль джаши ах кефрраг… — повторила она. — Я не софсем понимаю, что это сначит. Слова во мне… больше похоши на сон. Это что-то о пустыне?
— О бескрайней пустыне. И о людях, потерявшихся в ней.
— Хорошо… — голосок ее все еще немного дрожал, но она явно была полна решимости выгрызть зубами из меня все, что возможно. — Я ферю насчет… моего прошлого. Но почему я должна езжать вместе с фами?
Ну, это было еще проще.
— Видишь ли, я — волшебник. Я могу… Я ХОЧУ научить тебя магии, деточка… Из тебя получится хорошая волшебница.
Возможно, если бы у нее было больше времени — выучить язык, привыкнуть к новой обстановке, почувствовать уважение и любовь к своим 'родителям', в ответ на это предложение она дала бы мне в нос, вырвалась и удрала. А так она только переспросила:
— Магии? Это как?
Я зажег над ладонью маленький язычок синего пламени, самый простейший фокус, которым баловались все до одного студенты начальных курсов в Академии. Хил восторженно присвистнула.
— Ух ты… я тоже так сумею?
— И так, и по-другому, и еще многое, удивительное и волшебное… Ну как, согласна?
— Идет! — она, по южному обычаю, плюнула на ладонь и протянула руку мне, скрепляя сделку. Я с готовностью ответил тем же. Огонек зашипел и исчез.
— Прежде чем брать ее в ученицы окончательно, ее надо хорошенько отмыть. — Пробасил с облучка Рэд. Человеку, незнакомому с северянами, могло показаться, что он язвит. Но я то знал — мой увалень искренне обеспокоен. Да к тому же, по каким-то там их северным правилам, совершать такие важные вещи, как обряд принятия в ученики, следовало чисто вымытыми, нарядно одетыми и только после трехдневного поста.
— А этьот большой и глупофастый парень — он что, Фаш слуга? — с невинным видом цокая языком, спросила Хилл. Я отметил это 'Ваш' — наши отношения перешли в разряд деловых и она отбросила фамильярности. Рэд же возмущенно засопел.
— Имей уважение, детка. Он мой ученик, и в отличие от тебя — уже давно.
Хилл мгновенно сменила выражение лица и с непосредственностью ребенка запрыгнула к Рэду на скамью. Участливо шмыгнула носом.
— Ой, прости. Я не снала. А я тебя отшень больно напорезала?
— Нет, не очень, — смягчился Рэд. — Я тебя стукнул, наверное, больнее…
— Софсем нет! Я уже и не чуфстфую ничего!
Оставив их выяснять, кто кого сильнее приложил, я со вздохом облегчения вытянулся на мешках. Над головой вежливо спорили ученики, Громобой фыркал, птички пели, и я почувствовал себя совершенно счастливым.
***
НАСТОЯЩЕЕ
ГОРЫ АГА-РААВ
Пришла. Все-таки — пришла.
Выпестованная воспитанница — выпестованная — пестик — лепесток…
Люблю играть словами. Эмоциями. Душами.
Ну что, золотая моя, мы заговорим первыми или будем разглядывать Меня, как букашку? Это ее тщательно культивируемое презрение ко мне — как панцирь, в который она прячется. Ничто и никто не может поколебать ее устоев, мыслей, представлений о мире… Разве что я, да и то, только в те моменты, когда эти изменения не разорвут ее пополам. Все-таки слишком я ее жалею — другой бы на моем месте… Например, она до сих пор верит, что впервые меня увидела четыре года назад, в столице.
Хилли, Хилли… Что принесла? Что с таким стуком поставила на стол? А, вино и… что там у нас? Мясо. Мясцо.
Я пытался стать вегетарианцем, давно. Не вышло. Поглощать плоть живых когда-то существ — в этом что-то есть. В отличие от других стариков, мне повезло — все мои зубы при мне. В жесткости мяса — вызов, и — ах, как жаль, что я не сам охочусь на них, тех, которых подают к моему столу. Чуточку жизни другого существа, приправленного усилиями учеников — неплохое сочетание вкусов.
Она ждет, что я заговорю с ней, спрошу, чем вызвано такое настроение. Ох, девочка, твои настроения меняются так часто, что луна по сравнению с тобой — сама незыблемость. Ладно, я спрошу.
— Как твои опыты?
— Ты гадкий и злобный старик. И эти твои дурацкие листочки, ты все что-то пишешь, пишешь…
Все еще обижается на меня, хотя давно должна была понять… эх.
Я решил давить на жалость и симпатию. На них же легче всего давить, правда?
— Ах, своими злыми словами ты меня ранишь — в самое сердце…
Правильно, все-все, и себя в том числе — крупным помолом на мельницу обучения. Глядишь, когда-нибудь будет хлеб. И она скажет мне спасибо. Хотя — пусть это случится нескоро, потому что слова благодарности от учеников означают конец обучения.
— Деточка, это все для тебя. Воспоминания, перенесенные на бумагу. Я пишу для тебя, чтобы ты потом прочла и хоть чуть-чуть поняла меня, старого.
Эти слова — червячки на крючке, для маленькой рыбки, Хилли. Рано или поздно она заглотит наживку, и сделает то, к чему я ее подталкиваю вот уже несколько месяцев. Пора ей узнать, что она и кто.
А то плюется на меня, старого и уважаемого человека, ха!
Похоже, она успокоилась, перестала метать в меня свои пронзительно-злые взгляды. Хотя мне-то что: я и не такое видал. Черноокими вспышками презрения меня не пробьешь, тут нужен таран.
— Что же, рад за тебя… Не дрожи ресницами, сядь и расскажи. Что сделала, что получилось, а что нет. Все-все расскажи, а добрый дядюшка Джок послушает и посоветует что-нибудь.
— Собирала травы. Все, как ты учил… — пауза, потраченная на бесплодные попытки забыть мои слова, сказанные вчера. Или позавчера… А, может, и на той неделе, я ведь постоянно издеваюсь над ней. — Два зелья получилось, одно — нет.
— Корень мандрагоры добавляла?