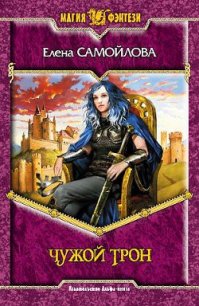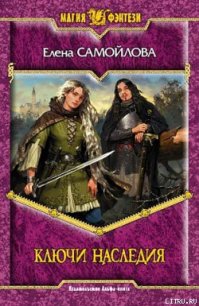Дети дорог - Самойлова Елена Александровна (читать книги онлайн без сокращений .txt) 📗
— Скотина ты бесчувственная, а не мужчина! — Ганслингер потянулась к трости, прислоненной к подлокотнику кресла, намереваясь не то переломить ее о голову несостоявшегося любовника, не то попытаться повторить подвиг с кружкой и закинуть в камин, но дудочник успел раньше. Не вставая с места, ухватил девушку за тонкое запястье и вполсилы сжал пальцы, за долгие годы привыкшие и к игре на дудочке, и к шлифовке подходящих для инструмента Кукольника драгоценных камней, и к скрытому внутри тяжелой трости острому клинку.
— Скотина, — согласился Викториан, сжимая ладонь чуточку сильнее и тем самым заставляя девушку подавиться очередным ругательством. — Но не бесчувственная. Просто область моих удовольствий несколько отстоит от твоей. Мне совершенно не нравится щупать женщину, которой для возбуждения в постели нужно погружаться в воспоминания о таких вещах, которые далеко не каждый палач себе представить сможет.
Ганслингер угрюмо молчала. Впервые за весь вечер не пожелала оставить за собой последнее слово. Она так и ушла — молча, прихватив пояс с револьвером и теплый камзол, и аккуратно, на редкость тщательно прикрыв за собой дверь.
Не к добру.
Викториан устало откинул голову на мягкую, чуть-чуть пахнувшую лавандой обивку старомодного кресла. Интересно, эту девицу, его бывшую ученицу, ему навязали для укрепления характера или же в наказание за упущенную прошлой осенью шассу? Или в Ордене все-таки пронюхали, зачем один из наиболее перспективных первых голосов разъезжает по всей Славении вместо того, чтобы с комфортом работать в крупном и богатом городе на необременительной должности, и потому подсунули в связку истеричную и склонную к неоправданной жестокости женщину? Каким-то образом узнали, что у него есть цель — покинуть Орден и отправиться на поиски Кукольников. Существ, не то изгнанных, не то ушедших по доброй воле подальше от людей. Найти тех, кто подарил людям знания о волшебных дудочках, подчиняющих чрезмерно расплодившуюся нечисть, и спросить, как же создавались инструменты самих Кукольников, способные изменить мир к лучшему.
Потому что мир нуждался в переменах. Нуждался в чистке от гнили, проросшей в людских душах.
До сих пор дудочки змееловов кое-как удерживали страну на грани окончательного падения в бездну хаоса, но этого явно недостаточно. Рано или поздно те, кто должен охранять людей от нечисти, станут заключать с недавними противниками договоры для собственной выгоды, если уже не заключают, и тогда человечеству придется признать свое полное и окончательное поражение. Хотя черт бы с этим миром, в самом-то деле, в одиночку его не излечишь и не вычистишь. Это бремя героев, а уж кем-кем, но героем разноглазый дудочник себя никогда не считал. Трусом, боявшимся собственных запретных мыслей, — да. Эгоистом, готовым сбежать хоть за море от навязанной участи цепного пса змееловов, охотившегося в месте, указанном в путевой грамоте с черной печатью, — да. Но не героем. Спасти всех ни у кого не получится. Но раз уж мир все равно катится в пропасть, единственное, что еще можно успеть сделать, — это соскочить на полдороге, прихватив с собой тех, кто действительно дорог.
Воздействовать магией волшебных инструментов на людей — табу, через которое Викториан уже однажды переступил. Осталось обойти еще один запрет — уйти из Ордена раньше положенного срока и с целыми, не перебитыми профессиональным палачом пальцами, а для этого нужно стать неуязвимым для револьверов ганслингеров.
Книги утверждают, что броня из шкуры золотой шассы защищает от любой магии — как от чарования дудочников, так и от свинцовых или серебряных пуль, в момент выстрела превращающихся в огненный шар или ледяное дыхание самой лютой стужи, которую только можно вообразить. Что дудочник, облаченный в эту броню, может повернуться спиной к кому угодно, пойти своей дорогой, тихонько наигрывая себе песенку «в легкий путь», и никто не осмелится его остановить.
Значит, осталось только отыскать это змеиное золото и выкупить за него себе свободу.
Слепая мгла дышит в лицо промозглой сыростью холодной весенней ночи, седой туман мелкими капельками оседает на лице и волосах, противно липнет к коже, пробирается за воротник. Где-то журчит ручеек, стекающий по желобу вдоль тротуара прямиком в канализационную решетку, где-то мерно колотится о стену дома висящая на одной петле вывеска. Негромко поскрипывает одинокий фонарь над порогом. Мутное, чуть закопченное стекло приглушает яркий оранжево-золотистый свет, но недостаточно хорошо: фонарь не столько разгоняет ночную тьму у парадного входа, сколько слепит и превращает в отличную мишень.
Катрина торопливо, по-девичьи легко сбежала по крыльцу и прислонилась к стене следственного дома в сторонке от границы освещенного круга. Ганслингера колотила нервная дрожь, невесть откуда поднявшаяся злоба невидимыми пальцами ухватила за горло, душила, не давала вздохнуть полной грудью. Дрянь! Сволочь хромоногая! На людях улыбается чуть ли не ласково, покровительственно кладет ладонь на плечо, а как останешься наедине — с грязью, с пылью походя смешает, как будто не партнер из связки, не ровня, а рекрут-новобранец, падающий в обморок от вида крови и палящий куда попало. И поучает, постоянно поучает, как будто она дитя малое, ничего не соображающее и не умеющее отличить нелюдя от человека! Осторожничает, постоянно оглядывается через плечо, что-то просчитывает, что-то продумывает, а толку? Если бы не вмешался, можно было бы аккуратненько привести полусумасшедшую «зрячую» на площадь, взять с собой стражу, наемников… Да здешний градоправитель, после того как у его советника дочурку прямо в постели сожрали, трясется и за себя, и за своих домочадцев, обвешал дом святыми крестами и ромалийскими оберегами, а про тяжелые засовы на дверях и ставнях в Загряде мало кто забывает. Он бы большую часть городского гарнизона выделил, лишь бы спать спокойно. Такая возможность — и «не смей, детка».
Тьфу, убила бы, да нельзя.
Девушка озлобленно пнула вывороченный из мостовой небольшой булыжник. Камень улетел в темноту и будто растворился в ней, канул, словно в глубокий омут. Вместо стука о мостовую или всплеска воды — тишина. Тяжелая такая, густая, та, в которой чаще всего скрывается охотник за легкой поживой.
Револьвер будто сам выскользнул из кобуры в ладонь, тяжелые узорчатые кольца удобно легли в выемки на рукояти, а пальцы закололо ставшей привычной болью. Тот, кто говорит, что ганслингер и его именное оружие составляют единое целое, даже не представляет себе, насколько прав. Катрина только раз, из чистого любопытства, попыталась снять кольцо, плотно сидевшее на указательном пальце правой руки, но сумела лишь чуть-чуть его сдвинуть, самую малость, но и этого оказалось достаточно, чтобы всю руку, от кончиков пальцев до плеча, прострелило острой болью, а из-под серебряного ободка полилась кровь. Ох, и отругал тогда девушку лекарь Кощ, обрабатывая жгучей, вонявшей сивухой жидкостью распухший вдвое, побагровевший палец…
— Доброй ночи, госпожа.
От мягкого, хорошо поставленного мужского голоса тьма расступается, отодвигается, будто тяжелый пропыленный занавес, позволяя отблескам фонаря коснуться расшитого шелком парчового рукава странного, чуть шутовского кроя, алой россыпью заиграть в недрах крупного рубина, оправленного в червонное золото. За такую безделушку, красующуюся на хрупкой, по-детски маленькой ручке, некоторые люди отдадут и душу, и дом со всеми слугами. Мало кто решится ходить с таким украшением на пальце без видимого сопровождения, для этого нужно быть очень влиятельным и уверенным в себе господином.
Или нелюдью.
Катрина не успела даже развернуть дуло револьвера в сторону нежданного собеседника, как на ее запястье легла холодная и костлявая ладонь, обтянутая черной кожаной перчаткой, крепко сжалась и начала давить вниз, вынуждая ганслингера опустить оружие. Да и попробуй тут не опустить — бесшумно подкравшаяся со спины нежить, от которой едва ощутимо несло затхлыми тряпками, либо руку оторвет, либо, что хуже, голову.