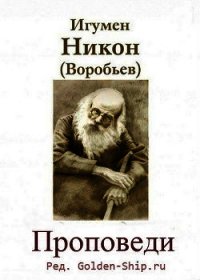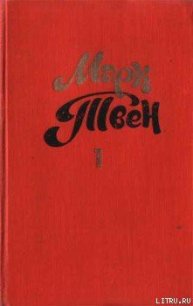Змеевы земли: Слово о Мечиславе и брате его (СИ) - Смирнов Владимир (читать книги без сокращений txt) 📗
— А почему она за Четвертака не пошла?
— Уж ли не знаешь? Облысела вся.
— Ой, мамка, не рассказывай! Знаю, как она облысела. Только не выглядит почему-то расстроенной. Совсем не выглядит. Уж четырнадцатый год, а так и носится в своих мечтаниях, словно мотылёк в паутине. Неужели есть что-то ещё?
— Что ещё?
— Ну, что-то ещё. Вот я — младшая княгиня. Старшей мне не стать, но ведь — княгиня! А она и от этого отказалась. И от Четвертака бегает, все ноги стёрла. В саже измазалась, лишь бы не смотрел на неё. За чем так тянется, чего ждёт? А, мамка?
Ключница вздохнула, покачала Милану, помолчала.
— Не знаю, доченька. Может быть, и ничего не ждёт. Мала ещё, глупа.
— Ну, я же в тринадцать всё о себе знала! Вырасту, замуж выйду, ребёночка рожу. Всё как на ладони написано.
— А иным и к ста не дано, коли Доля не сплела.
— Значит, Недоля?
— Не знаю, милая, не знаю. И ты себе голову не забивай, плод береги. Вот принесут тебе рулечку с медком да хреном — поешь, ребёночка покормишь, всё и образуется.
— Да ну тебя, скажешь ещё! Кто же мясо в меду делает? Да ещё с хреном?
— А кто его знает, красавица. Может быть, и получится что. Мы ж, бабы беременные — чего только не удумаем. Из десяти одно да впрок получится. Я, когда на сносях ходила, яйцо в пенку взбивала, так и ела.
— Сырое яйцо? В пенку? Ой, хочу-хочу! Когда ещё той рульки дождёшься!
Глава вторая
Доннер
Ближе к вечеру прибежала Брусничка, позвала красить невесту. Улада, приветливая, как ни в чём не бывало, проворковала — боярской дочке виднее, как сделать невесту самой-самой на свете, чтобы муж глаз не отвёл.
Милана отшутилась, дескать, всё это нужно уродинам, а Сарана — красавица. Чуть припудрить обветренные щёки, нарумянить слегка, уголки глаз выделить, брови подровнять. Сарана взволнованно спросила о щеках, втроём еле успокоили — поживёт в тереме, кожа разнежится, отвыкнет от Степи. Бедняжка снова чуть не расплакалась, Улада обняла, погладила по спине, реветь настрого запретила — всё размажется. И голову, голову выше, милая. Ты теперь — без мига — княгиня!
Пока Кряжинская накрашивала, готовила невесту, в душе поселилась вьюга. Слёзы сдерживать было бы легче, да нечего сдерживать. Ничего не осталось, будто слёзы превратились в снег, и метёт тот снег, метёт. Во что она превратила смешливое и кроткое существо? Как теперь всё исправить и можно ли исправить такое? Себе жизнь искорёжила, и ей попутно яду в нутро налила. Не зря, значит, после приезда Миланы Ждану кормилицу нашли: нельзя ребёнка таким кормить, вот и пропало у княгини Бродской молоко. Боги, да что же это такое, как же это так…
Свадьба прошла, как в тумане. Стояли у капища по порядку: Мечислав, Улада, Брусничка, Милана. Брусничка — ещё не жена, её свадьба — впереди, но дело уже решённое, не отменить. Ждали, пока Шабай подведёт Сарану к третьей жене. Милана за руку приняла у отца невесту, едва заметно поцеловала в щёку, чтобы не размазать румяна, передала Брусничке. Та тоже поцеловала, передала руку княгине Бродской. Улада долго смотрела в глаза Сараны, улыбаясь, взяла за плечи, трижды поцеловала, повела к Мечиславу. Тот выглядит смущённым, голова чуть набок, всё норовит пожать плечами, будто извиняется. Первая жена взяла его правую руку, положила ладонью на левую ладонь Сараны, сомкнула, подняла вверх.
— Здравствуй, сестра! — раздался громкий чистый голос. — Велика семья, велико и счастье!
Тишина разорвалась криками горожан. Все желают счастья, радуются. Мечислав обнял новую жену, расцеловал в губы — ему перед свадьбой строго запретили касаться щёк. Не забыл, молодец.
Князь взял Сарану на руки и под общее ликование понёс через всю улицу в терем. Теперь уже — улицу. Кирпицовые дома ещё достроены не вполне, но площадь и дорога — вымощены, чистые. Подумать только — четыре месяца назад тут были грязь и слякоть! Как же он её-то нёс? Какими силами? Она и потяжелее будет. Ненавистью и упрямством?
Прислушалась к себе. Нет. Ни слезинки не просится. Пусто. Лишь вьюга и снежная крупка метёт, царапает душу.
На пиру сидела недолго. Три подъёма по приличию — за молодых. От хмельного отказалась. Никто не возражал, все знали — не пьёт. Сказалась больной, извинилась, ушла к себе.
Разделась догола, расплела косу, раскидала волосы по плечам, осмотрела себя. Села на кровать, потянулась за ночной рубахой, передумала. Руки бессильно легли на ноги, взгляд бесцельно блуждал по комнате. Сколько просидела — бог весть.
Очнулась.
Снова осмотрела себя.
Ладони сложились в чашечки, приподняли налитые груди. Кормить бы ими детей, и кормить. Вздохнула, легла, накрылась под самый подбородок. Руки привычно легли на живот.
Улька, бедненькая. Думает, мне постель мечиславова нужна. За ненавистью даже не заметила — который месяц к нему не прошусь. Уже ношу, какая там постель. Ношу-ношу, да никак не донесу. Как тебя разбудить, дитё, как? Вьюга говорила — любовью. Где же её, любовь, взять-то? Не нужен ты Мечиславу: меня он не любит, и тебя возненавидит. Кордонецу нужен наследник, не малыш. Не любовь это. Мне нужен, да не для себя я тебя ношу. И не для Кордонеца. И не для Мечислава. Для тебя ношу, только для тебя. И буду хоть сто лет носить, и всё на свете отдам, лишь бы ты проснулся.
Отступила вьюга, закончилась метель. Перестала царапать крупка, растаяла.
В животе едва заметно толкнуло.
И пришло время слёз.
Блиц
— Милана, Милана! — Улада, выбежала на крыльцо. — Милана, я сверху видела, Четвертак едет. В постель, быстро!
Милана нерешительно посмотрела на ворота, прадед может его совсем не пустить, а… а может и пустить. Наклонилась, потёрла руки в пыли, намазала лицо.
— Бегу, Улька.
Пробежала в комнату, спряталась за окном, приоткрыла.
— Мало тебе жён? — раздался за воротами голос прадеда. — Милана слаба, дороги не переживёт.
— Я — муж? — голос Четвертака звучал неубедительно грозно. Так пьяница требует у строгой жены пустить его переночевать.
— Муж!
— Повидаться дашь?
— На кой тебе? Спит она. Болеет. — Теперь Кордонец скорее оправдывался. Не дать мужу увидеться с женой — не по кряжицки.
— Я тихонько, боярин, даже сапоги сниму.
— Не снимай, совсем задохнётся.
Скрипнула калитка, Милана мигом спряталась под одеялом, закрыла глаза.
Звук подков по дереву, скрип половиц, нерешительная заминка у двери. Скрип, приближающиеся шаги, шуршание одежд и тёплое дыхание. На колени что ли встал?
Шершавая рука коснулась лица.
Милана устало открыла глаза.
— Как же так, девочка моя?
— Ночью было. Есть захотелось. Упала, Чет, ребёнка потеряла. Прости.
Минуту назад думала, как слезу из себя выдавить, а вот они — сами потекли из глаз.
— Прости, Чет. Не уберегла ребёночка нашего. — Милка едва слышно всхлипнула.
— Ничего-ничего, главное сама жива. Кордонец сказал, дорогу не переживёшь. Выздоравливай. Мы едем в Дмитров, там у меня родня дальняя. Дом построим. Как поправишься — шли гонца, ладно? Я за тобой сам примчусь.
Нужен ты больно, привязался как репей. Бессильная злоба похожа на глубокое горе — слёзы хлынули в два ручья. Отвяжись, отвяжись, Змеев сын, неужто не видно, знать тебя не желаю.
И Четвертак увидел. Глаза сузились, отшатнулся.
— Вот оно что. Дорожки грязные на лице. Теперь пылью пудрятся? До пепельного цвета? Небось, и ребёнка?
— Нет! Нет, Чет! Четушка, я правда упала с лестницы, — Милана забилась в угол кровати, подобрала ноги, натянула одеяло до самых глаз. Муж встал, сжал кулаки, расправил плечи для замаха. Несколько раз вздохнул, и девушка поняла — не для удара. Берёт себя в руки.
— Четвертак. — Процедил изгой сквозь зубы. Глаза отвёл — смотрит на черёмуху за окном. — Меня зовут Четвертак. У меня есть пять жён и восемь детей. А шестая жена умерла родами. Мёртвого родила. Он её и отравил. Шестнадцать ей было. Тебе всё ясно?
— Ясно, Чет… вертак.