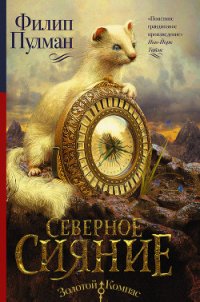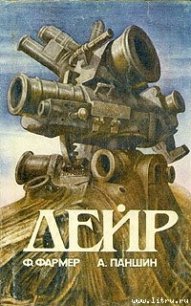Янтарный телескоп - Пулман Филип (е книги TXT) 📗
Но Уилл тоже чувствовал, как в груди у него нарастает боль, и, борясь с ней, видел, что галливспайны, обнявшиеся подобно ему с Лирой, испытывают те же мучения.
Отчасти они были физическими. Словно железная рука сдавила ему сердце и пыталась вытащить его сквозь ребра, а он, прижав к этому месту ладони, тщетно пытался удержать его внутри. Эта боль была гораздо сильнее и хуже той, которой сопровождалась потеря пальцев. Болело не только тело, но и душа; что-то самое дорогое и потаенное вытаскивали наружу, где ему совсем не хотелось быть, и Уилл задыхался от стыда и муки, страха и злости на себя, поскольку виновником этого был он сам.
Мало того. Это было как если бы он сказал: «Не надо, не убивайте меня, потому что я боюсь; убейте лучше мою мать — мне все равно, я не люблю ее», а она услышала бы эти слова, но притворилась, что не слышала, щадя его чувства, и сама, движимая любовью, предложила себя в жертву вместо него. Вот как ему было плохо — хуже и быть не может.
Но Уилл понимал: все это означает, что у него тоже есть деймон и что его деймон, каким бы он ни был, сейчас остался вместе с Пантелеймоном на том унылом, пустынном берегу. Эта мысль пришла в голову Уиллу и Лире одновременно, и они обменялись взглядами — глаза обоих были полны слез. И во второй, но не в последний раз в жизни каждый увидел на лице другого свое выражение.
Только лодочника да стрекоз, похоже, не угнетало это путешествие. Огромные насекомые были бодры и даже в липком тумане сверкали яркими красками, отряхивая прозрачные крылышки от влаги, а старик в хламиде из мешковины наклонялся вперед и назад, вперед и назад, упираясь босыми ногами в покрытое слизью днища.
Дорога была долгой — Лира боялась даже прикинуть, сколько они проплыли. Хотя она по-прежнему невыносимо страдала, вспоминая о брошенном на берегу Пантелеймоне, какая-то часть ее сознания уже сживалась с болью, оценивая свои силы и пытаясь угадать, что произойдет дальше и где они высадятся на землю.
Ее обнимала крепкая рука Уилла, однако он тоже смотрел вперед, стараясь рассмотреть что-нибудь во влажной серой мгле и расслышать за ритмичным плеском весел другие звуки. И вскоре что-то действительно изменилось: впереди появился то ли утес, то ли остров. Сначала они поняли это на слух, а потом увидели сгущение в тумане.
Лодочник придержал одно весло, чтобы чуть повернуть шлюпку влево.
— Где мы? — раздался голос кавалера Тиалиса, негромкий, но уверенный, как всегда, хотя теперь в нем тоже чувствовалось напряжение, говорящее о перенесенных муках.
— У острова, — ответил лодочник. — Еще пять минут, и причалим.
— У какого острова? — спросил Уилл. Его голос тоже звучал напряженно — настолько, что он сам еле узнал его.
— На этом острове находятся врата страны мертвых, — сказал лодочник. — Все прибывают сюда — цари, королевы, убийцы, поэты, дети; все приходят этим путем, и никто еще не вернулся обратно.
— Мы вернемся, — яростно прошептала Лира. Старик промолчал, но в его древних глазах светилась жалость.
Подплыв ближе, они увидели низко нависшие над водой ветви кипарисов — широкие, хмурые, темно-зеленые. Берег здесь был крутой, деревья росли так густо, что между ними с трудом пробрался бы даже хорек, и при этой мысли Лира подавилась рыданием, потому что Пан обязательно показал бы ей, как ловко он может справиться с такой задачей; услышит ли она еще когда-нибудь его безобидное хвастовство?
— Мы уже мертвы? — спросил лодочника Уилл.
— Это неважно, — ответил тот. — Некоторые приезжают сюда, так и не поверив, что умерли. Всю дорогу твердят, что они живы, что это ошибка и кому-то придется за нее заплатить; а что толку? Есть и другие бедняги, которые давно мечтали умереть, поскольку вели жизнь, полную горя и страданий, — они убили себя, надеясь на благословенный отдых, и обнаружили, что все только изменилось к худшему, а выхода на сей раз нет: ведь вернуться к жизни уже невозможно. А бывают такие больные и хрупкие — новорожденные младенцы, к примеру, — что, едва успев родиться, они сразу отправляются к мертвым. Я много, много раз плыл сюда, держа на коленях крохотного плачущего ребенка, который так и не заметил разницы между верхним миром и нижним. И старики — богатые хуже всего, они ругаются и проклинают меня, визжат и скандалят: да кто я такой! Разве не прибрали они к рукам все золото, до которого могли дотянуться? Так почему бы мне не взять немного и не доставить их обратно на берег? Они-де отдадут меня под суд, у них могущественные друзья, они знакомы с самим папой римским, с королем таким-то и герцогом таким-то, уж они-то добьются того, чтобы меня жестоко покарали… Но и эти буяны в конце концов осознают свое истинное положение: теперь они в моей лодке, на пути в страну мертвых, а что до пап с королями, то и они окажутся здесь в свой черед, раньше, чем им бы хотелось. Я не мешаю им бесноваться: мне они повредить не могут и рано или поздно утихают.
Поэтому, если ты не знаешь, умер ты или нет, а эта девочка клянется, что вы вернетесь к живым, я не буду вам возражать. Скоро вам станет ясно, кто вы на самом деле.
Все это время он не переставая греб вдоль берега, а потом вынул из воды весла, уложил их в лодку и потянулся вправо, к первому деревянному столбику, торчащему из воды.
Поставив лодку бортом к узкому причалу, он придержал ее, чтобы они могли вылезти. Лира не хотела выходить: пока она сидит в лодке, Пантелеймон может думать о ней правильно, потому что именно такой он видел ее в момент расставания, но стоит ей выбраться на сушу — и он не будет больше знать, какой ее себе представлять. И она замешкалась, но стрекозы взлетели в воздух, и бледный Уилл, держась за грудь, шагнул на причал, так что ей волей-неволей пришлось последовать их примеру.
— Спасибо, — обратилась она к лодочнику. — Если вы увидите моего деймона, когда вернетесь назад, пожалуйста, скажите ему, что я люблю его больше всех и в мире мертвых, и в мире живых и обещаю, что вернусь к нему, пускай даже никто раньше этого не делал. Это клятва, и я ее не нарушу.
— Хорошо, передам, — ответил старик.
Он оттолкнулся от столбика, и скоро размеренный плеск весел затих в тумане.
Пролетев немного, галливспайны вернулись и, как прежде, устроились у детей на плечах: она — на Лирином, он — на Уилловом. Путники медлили, стоя на пороге страны мертвых. Их окружал сплошной туман, но впереди он был темнее, чем позади, и они догадались, что там возвышается гигантская стена.
Лира содрогнулась. Ей казалось, что ее кожа стала дырявой, как рыболовная сеть, и промозглая сырость льется ей прямо в грудную клетку, обжигая ледяным холодом свежую рану, нанесенную разлукой с Пантелеймоном. Однако, подумала она, Роджер наверняка чувствовал то же самое, когда бежал вниз по горному склону, отчаянно вцепившись в ее руку…
Они стояли неподвижно и прислушивались. Единственным звуком было безостановочное кап-кап-кап стекающей с листьев воды; они посмотрели вверх, и им на лица плюхнулись две-три холодные капли.
— Не могу здесь больше, — сказала Лира. Держась вплотную друг к другу, они двинулись прочь от пристани к маячащей впереди стене. Огромные каменные глыбы, зеленые от древней слизи, поднимались, насколько хватал глаз, и терялись в тумане. Теперь, подойдя ближе, путники стали различать за стеной что-то похожее на плач, но человеческий он или нет, понять было невозможно: протяжные, тоскливые стоны и причитания висели в воздухе, словно тончайшие щупальца гигантской медузы, вызывающие боль своим прикосновением.
— Вот и дверь, — хриплым, напряженным голосом сказал Уилл.
Дверь была старая, деревянная, под каменным козырьком. Но едва Уилл протянул руку, чтобы открыть ее, как прямо у них над ухом, перепугав их чуть не до обморока, раздался высокий пронзительный вскрик.
Галливспайны тут же метнулись в воздух — их стрекозы были похожи на крохотных боевых коней, рвущихся в бой. Но спикировавшее с небес существо отшвырнуло их жестоким взмахом крыла и грузно уселось на скалистый выступ прямо над головами детей. Тиалис и Салмакия, придя в себя, успокаивали своих дрожащих насекомых.