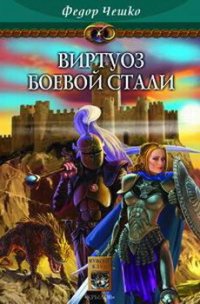Урман - Чешко Федор Федорович (книги бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
Припутав коня рядом с волхвовым Беляном на изрядном удалении от луговины, Лисовин пешком подобрался к Мечнику. На Велимировом языке вертелась уйма добрых советов. Например, учинить мордве какую-нибудь пакость (хоть бы челны пожечь с причалом вместе) да и убраться восвояси. Разве плохо? И ворогу досада, и свои все останутся целы… Впрочем, высказывать что-либо вслух Лисовин покуда остерегался. Попросит названый сынок — тогда и насоветуемся от души; лезть же вперед спросу вроде неловко. Белоконь вон и старше, и умнее во всех делах (кроме, конечно, охоты), а ведь помалкивает! Сидит себе, привалившись спиною к дереву; в сторону мокшанского града даже высморкаться не хочет; на Кудеслава взглядывает лишь изредка: «Думаешь? Ну-ну, думай. Я обожду, я мыслям твоим не помеха…»
Нет, Мечник не нуждался ни в чьих советах. Дай волю старикам, и ослабленные, не способные одним ударом сломить вражью силу общины (своя да мордовская) затянут распрю до поздней осени. Так и будут вятичи да мокшане чинить друг другу разорительные беспокойства, а потом, вконец обессилев, затеют мериться обидами и выяснять: кто начал свару, чей вышел верх, кому с кого причитается возмещение-вира…
Не спеша прикинув высоту мокшанского тына, расстояние до него, направленье и силу тянувшего вдоль луговины ветра, Кудеслав отошел чуть дальше в лес — через просветы меж древесных стволов мордовский град с этого нового места виделся как на ладони, а вот из града углядеть Мечника и потянувшихся к нему родовичей никак бы не удалось.
Да, родовичи потянулись к Кудеславу, и тот, смахнув с лица показную задумчивость, принялся распоряжаться:
— Будь милостив, Велимир, принеси-ка вьюк, что на твоем коне… Мужики, кому я корчагу доверил? Тебе? Так где?.. Мне твои рассказы не надобны, мне надобна корчага! Чтоб сей же миг здесь была! Ему, вишь, нужное вверили, а он бросает куда ни попадя… Ты и вот ты — запалите костер. Да, здесь, — небольшой и чтобы без дыма… Ага, нашел корчагу? Гляди, если хоть клок из нее пропал, недостающее надеру из твоей бороды! Высыпай вот сюда, на землю… Ага, благодарствую, Велимир. Ты осторожней с ним, там деготь внутри. Давай-ка в корчагу отольем… Так. Будь добр, постой здесь и по мере надобности подливай. Мужики, сносите все свои стрелы к огню. Ты будешь наконечники мехом обматывать да макать в деготь, а вы двое — поджигать и разносить лучникам. Думаю, пятерых лучников хватит… Кощей, Злоба и вот вы втроем — идемте к опушке, на места становиться.
Наконец-то до родовичей дошел смысл Мечниковой затеи.
Поднялся ропот; кто-то даже осмелился спросить, не оплошал ли Кудеслав умом.
Где ж это слыхано — палить вражье жилье? Что с них потом возьмешь, с погорелых-то?! Приступ ведь затевается не для удалого молодечества, а ради добычи или хоть виры с битого ворога! В запрошлом году мордва спалила подожженными стрелами вятичскую дозорную вышку — это было, но ведь ни в одну мокшанскую голову не забралось жечь град! Небось захоти лишь, так в миг бы пустили дымом вятское жилье — крыши-то все больше травяные (впрочем, и тесовую поджечь труд не велик). Но не пустили же, потому как рачительные люди, добычливые, хоть и мордва. А мы что же?!
Ряженный по-хазарски волчина, сказывают, грозился спалить мордовское гнездо — так он и есть волчина в людском обличье; он воевода, носит на голове тяжкую железную шапку-шелом, вот голова и притомилась. И Кудеславова, видать, притомилась из-за такой же причины. Но мы, мы-то что же?!
Кудеслав выслушал все это (в том числе и домыслы о своей притомившейся голове) на редкость спокойно. Глядел поверх макушек, позевывал, оглаживал стриженую бородку. Когда же окружившие его спорщики, видя, что возражать он вроде не собирается, начали постепенно успокаиваться (внял, дескать, железноголовый Урман разумным речам, передумал), Мечник внезапно осведомился:
— Мне все сызнова повторить, или как?
Спрошено было негромко, вроде бы даже ласково, но родовичи мгновенно растеряли желание пререкаться.
Лишь Велимир, маявшийся с дегтярным мешком-бурдюком (неудобная штука; вон уже штаны да онучи пообливал — нешто теперь отстирается?), проворчал еле слышно:
— А ежели и мордва нас в отместку этак-то?
— Не посмеет! — отрубил Кудеслав.
На самом деле он вовсе не был уверен, что мокша не решится следовать показанному ей сегодня примеру.
Он был уверен в другом: распрю нужно окончить нынче же — хоть огнем, хоть как, — дабы не вводить кое-кого в соблазн призвать на помощь сынка «старейшины над старейшинами».
Тренькнули тетивы; первые пять стрел проволокли к мордовскому граду черные хвосты смрадной копоти.
Еле различимое мельтешенье на тыне мгновенно прекратилось; кое-кто из мокшанских воинов, забывшись, выпрямился по-дурному, подставил себя под выстрелы. Но засевшие в лесу нынче не собирались стрелять по людям.
Когда в небо взвилась новая пятерка шипящих, брызжущих чадными искрами остроклювых пташек, гребень мордовского частокола сорвался разноголосой вспышкой отчаянной брани — своей и ломаной вятской. Кто-то вопил со злыми слезами в голосе:
— Нешто можно такое?! Нешто такое льзя?!
Еще пять дымных дорожек выгнулись в небесной голубизне, уткнулись за мокшанский тын.
Мордва пыталась бить из луков по лесной опушке. Летучая смерть безвредно колотилась о древесные стволы, а навстречу взмывали все новые и новые горящие стрелы…
Над зубчатым гребнем частокола лениво вспух столб сизоватого дыма. Потом — поодаль — взвился еще один. Занимались-таки кровли мокшанских изб. И могло ли быть по-иному?
А потом из-за угла частокола вывернулся щуплый, одетый в пестрядину старик — то ли на ремнях его вниз спустили, то ли вышмыгнул он из дальних, невидимых от опушки ворот — важно ли это? Конечно нет.
Размахивая над головой каким-то чахлым прутиком, долженствующим изображать лиственную ветвь (которую об этой поре, да еще и в граде взять было негде), старик торопливо пошел к тому месту, откуда продолжали взлетать горящие стрелы. Он все прибавлял да прибавлял шагу, пока наконец не побежал во весь дух, — Кудеслав видел, как стелются по ветру седые длинные космы, как смешно болтается из стороны в сторону длинная белая борода…
— Ну, мужики, покуда с них хватит, — усмехнулся Мечник. — Сговариваться хотят. Кто пойдет?
Он вопросительно глянул на Белоконя (тот так и сидел все на том же месте, спиною к мордовскому граду). В Кудеславову сторону волхв не смотрел, но, догадавшись, что вопрос обращен прежде всего к нему, вздохнул:
— Иди лучше ты, Лисовин. Тебе и мокшанская речь ведома, и вообще…
Велимир опустил на землю бурдюк с остатками дегтя (из опавшей кожи неспешно полезла, сминая молодую траву, блестящая вязкая чернота) и заторопился встречь мордовскому вестнику. Они сошлись на полпути меж опушкой и градом, заговорили о чем?то неслышном, помогая речи выразительными взмахами рук.
Наверняка меж этими двумя стариками повелся очень важный для обеих общин разговор, только вовсе не на разговаривающих стариков хотелось глядеть сородичам Кудеслава.
Взгляды родовичей прикипели к тянущимся из-за частокола дымам. Да как прикипели! Мужик, не донесший до лучников очередные подожженные стрелы, так и замер с ними в руках. От продегтяренного меха огонь перекинулся на древки — мужик не замечал. Небось вспыхнут штаны — и то не сразу почувствует.
Дымы над мокшанским градом светлели; нет-нет да и пятнали их белесые клубы пара.
Мокша боролась с пожарами, и вятские воины, грызя губы да ногти, гадали (многие — вслух): спасет мордва свой град или не спасет?
И Кудеславу подумалось, что лишь оглядка на него, Кудеслава-Урмана-Мечника, мешает сородичам со всех ног кинуться к граду — помогать тушить ими же разожженное пламя.
8
Случись Лисовину увидеть этакое обращение с его лучшим конем, Мечника не уберегли бы ни пробивающаяся в бороде седина, ни воинское умение. Впрочем, воинское умение к этаким делам вовсе никакого касательства не имеет: даже ради защиты собственной жизни Кудеславу бы и в голову не пришло поднять руку на названого родителя. А вот Велимиру при виде мокрых, ходуном ходящих боков, разодранных удилами губ да кровяных белков загнанного коня прежде всего другого обязательно пришло бы в голову поднять руку на Мечника. И не только поднять, но и опустить, причем не единожды. И еще хорошо, если только руку — пустую, без чего-либо увесистого или хлесткого. Потом Лисовин бы наверняка пожалел о своей несдержанности, но это самое «потом» наступило бы очень не скоро.