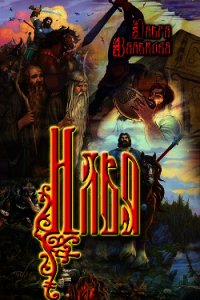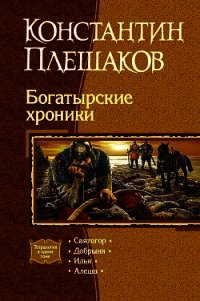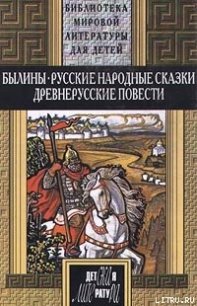Богатырские хроники. Театрология - Плешаков Константин Викторович (книги без сокращений .txt) 📗
У меня так и чесался язык сказать Илье, что он шутит с сыном Волхва, но я остерегся: Бог знает, что бы сделал Илья после этого и куда бы его завела своекорыстная жилка его натуры.
Я же не знал сна в эти дни. Конечно, я чувствовал себя ответственным за Радко; ведь я как-никак решил его судьбу, позволив ему остаться Соловьем-Разбойником; вместе с его судьбой я решил и судьбу Наины, его матери.
Но было здесь и кое-что другое, от чего я покрывался холодным потом по ночам. Вдруг Волхв или его несчетные глаза и уши узнают Радко? Сажа на лице да черный плащ — слабая защита от глаз Волхва. Чем дольше я думал, тем больше мне казалось, что Волхв обязательно появится в Киеве сам. Он всегда старался самолично сделать смотр всей новоявленной нечисти. Я понял, что медлить больше нельзя.
Вход в подземелье сторожили двое. Справиться с ними я бы мог без труда. Но мне не хотелось, чтобы с освобождением Радко связывали мое имя. Ни к чему было навлекать на себя гнев князя Владимира, а еще более ни к чему было давать Волхву направляющую нить. Поэтому днем, при полном многолюдстве, я выехал из Киева.
На следующую ночь я был у княжеского дворца. Я прошел туда подземным ходом от Днепра. У подземелья я оглушил стражей, сбил замок и шагнул в темноту со свечным огарком в руке.
Я знал, что подземелья никогда не пустовали, но был все же поражен числом несчастных, томившихся в клетках. Завидев меня (но не узнав — я был закутан в плащ), они заволновались, бросились к прутьям и подняли страшный шум. Чтобы отпугнуть их, я крикнул:
— Соловей, свисти!
Радко услышал меня и свистнул — в полный голос… Меня сшибло с ног. Несчастные тоже попадали и со стонами расползлись по темным углам. Пошатываясь, я бросился в дальний конец подземелья, где стояла клетка с Радко.
Раздвинуть путья было не слишком трудно, тем более что Радко не требовалось большого проема. Я поднял его на руки и выбежал вон.
Шум в подвале и, главное, свист Радко подняли дворец на ноги. Кто-то уже бежал с факелами к подземелью. Я прокрался, как тать, к подземному ходу, впихнул в него Радко и, прикрыв за собой дверь, задыхаясь, сказал:
— Беги вперед, здесь тесно, я не смогу нести тебя.
И мы побежали, вернее, поползли по тесному лазу.
Вскоре через плечо Радко я увидел мерцание звезд. Почуяв волю, Радко всхлипнул.
Мы спустились к реке. В камышах был спрятан мой челн. Когда я отгреб от берега, мы увидели множество факелов на стене дворца. Почувствовав, что мы уже в безопасности, я принялся корить Радко. В ответ на мои слова он съежился еще больше и пробормотал:
— У него был такой красивый плащ…
«Ребенок, — подумал я, — но опасный ребенок».
Потом мы ехали на моем коне по Черниговской дороге. Днем мы спали в лесу, а ночью осторожно продвигались дальше. К счастью, разбойники еще не вернулись в здешние места, и нас никто не потревожил.
Подъезжая к Свапуще, я перестал таиться и ехал вечером. Деревня лежала все так же — в пепле. С дороги мне были видны белеющие кости.
Внезапно от стены дубов отделилась женская фигура и с плачем бросилась к нам.
Радко спрыгнул с коня. Она обняла его… Потом стала целовать мое стремя. Я тронул коня.
— Запомните: в следующий раз я уже не смогу помочь вам. Теперь, Радко, ты можешь выходить на дорогу один раз в целую луну. И запомни — твоя добыча — толстый, дрожащий от страха купец. Позаботься об этом, Наина.
Я пришпорил коня; когда я оглянулся, в лучах заката увидел две фигуры, прижавшиеся друг к другу, глядящие мне вслед.
Очень скоро до меня дошли киевские слухи. Не без удовольствия я услышал, что великий князь разгневался на Илью и даже на время посадил его в подземелье, где Илья и отсидел смирно, как старый ручной медведь. Не без удовольствия же я услыхал слова князя, сказанные во гневе, что пока-де в Киеве был Добрыня, Соловей-Разбойник не отваживался на побег. Молва приписывала побег исключительно колдовству Соловья, о фигуре со свечным огарком, ворвавшейся в подвал, она не говорила ни слова.
Еще я узнал, что в эти дни Волхва видели далеко на Востоке, а следовательно, в Киеве он быть не мог. Мне оставалось только надеяться, что его не слишком заинтересуют глупые слухи.
Вот что это был за подвиг Ильи, вот что это был за Соловей-Разбойник, и вот чего мне стоила вся эта история.
Илья потом еще шастал по Черниговской дороге, но Радко был уже учен. Вообще слухи о нем постепенно отодвинулись в область преданий. Хотя некоторые и рассказывали, что после полнолуния Соловей все так же страшно свистит и бросается на купцов с дерев.
Я еще раз должен сказать, что Илья сделал много доброго в своей жизни. Он научил меня многому.
Однажды мы ехали с ним в Новгород, и Илья преподал мне, как я считаю, великий урок. На обочине вересковой пустоши, во мху, нам попался крепкий крупный сатанинский гриб, который, как известно, так похож на белый.
— Сатанинский гриб! — сказал Илья.
Я только кивнул. Тут Илья, укоризненно кряхтя, слез со своего жеребца, вернулся к грибу и аккуратно сшиб его носком сапога. Потом он обернулся ко мне (я до сих пор помню его серьезное лицо) и сказал:
— Никогда, никогда не оставляй сатанинский гриб! Сбей его, чтобы он не попался несведущему.
Всю жизнь я следовал этому завету; и именно поэтому я и ввязался в историю с Соловьем-Разбойником, хотя там уже и был замешан постаревший Илья, который к старости сделался тщеславен, что так часто случается с богатырями.
Глава вторая
Не знаю, где я сложу голову; видно, так мне на: роду написано, что смерть свою я встречу внезапно, незнамо где, когда сам буду всего меньше ее ожидать. Я немного умею ворожить; иногда меня посещает откровение; по молодости я пытал судьбу, желая знать, когда и как встречу свою кончину, но никогда не получал ответа; смотрел ли я в огонь или воду, я видел мечи, дороги, а потом — все заволакивалось, и конец мой оставался для меня по-прежнему темен. Еще когда я странствовал с Учителем, спрашивал его о том же; Учитель не хотел ворожить мне, хотя был силен в этом искусстве, хмурил брови, говорил: потерпи несколько лет, скоро это перестанет тебя интересовать (а ведь и в самом деле — годам к двадцати пяти перестало), но я настаивал, и однажды Учитель сдался, гадал по огню и по воде, а потом встал ошеломленный и сказал: «Знаешь, Добрыня, Он, видно, не хочет открывать это; ничего не вижу». Гадала и мать моя; я еще скажу об этом — она сильная ворожея, да тоже ничего не увидала. Она долго не хотела гадать: боялась, а однажды, когда я в бессчетный уже раз покидал дом, в отчаянии решилась — и тоже ничего не узнала, сказала только, что я закрою ей глаза, и успокоилась отчасти: имея сына-богатыря, всегда боялась, что переживет меня. Но как бы я ни окончил свои дни, хотелось бы, чтобы это случилось там, где я появился на свет, хотя в жизни почти никогда не бывает так, как того хотят люди, воображающие, что их резоны что-то значат в сравнении с Его.
Я родился на севере Русской земли, в двух днях езды от Новгорода, в лесах, на берегу огромного озера. Теплый сухой сосновый бор, мягкий мох, слой хвои под ногами, плеск рыбы в воде — вот что я помню с детства; зим я не помню, может быть потому, что не люблю зиму.
Отчетливо помню, как я родился. Многих это удивляет, многие не верили мне, даже мать моя. Но когда я описал, что в момент моего появления на свет повитуха обронила чашу, — поверила. Помню, как на меня хлынул свет, помню чувство изумления и освобождения, помню нашу избу, которая казалась мне огромной, помню пучки трав, окошко, печь. А потом наступает провал в памяти, и я уже не помню, как рос, и помню себя в следующий раз уже лежащим на спине (мне — несколько месяцев, мать склонилась надо мной и разговаривает со мной), потом помню, как я болею (мне — два года), а потом, как и все, отчетливо помню себя лет с четырех.
В детстве во сне меня преследовал один и тот же кошмар: что-то надвигалось на меня, бесформенное, чему решительно не было имени, незнакомое, неотвратимое, вызывающее страх, но не злое, просто нечто, против чего я был совершенно беспомощен, и, как только я должен был соприкоснуться с этим нечто, я слышал неразборчивую ласковую речь и с криком просыпался. Учитель говорил мне, что это память о том, как я выходил из утробы матери. Может быть, потому, что тут были и неотвратимость, и новизна, и чья-то ласковость, которая была мне пока что чужда, и страх перед неведомым. Возможно, так оно на самом деле и было.