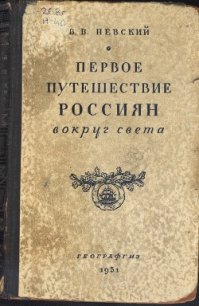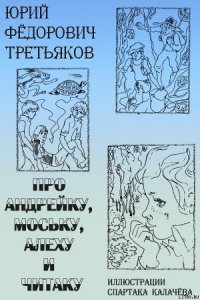Мнемосина (СИ) - Дьяченко Наталья (книги полностью .txt) 📗
— Выдумщица! — фыркнула старшая. — И вовсе та дама тебе ничего не дарила. Мальчишка отпустил шарик полетать, а ты понеслась за ним, как угорелая.
— Не дарила, но могла бы подарить, кабы знала, как я о нем мечтаю, а это почти то же самое.
— Вовсе не то же.
— Нет, то же. И разве не ты кричала, чтобы я бежала быстрее? Он и тебе понравился.
— Вот еще глупости какие, не понравился нисколько, он капризный.
— Как еще шарик может быть капризным? Ничего он не капризный, он, — девочка мечтательно погладила шарик — красивый.
— Какой шарик? Мальчишка капризный! И не красивый ничуть.
Судя по всему, такие перепалки были девочкам привычны. Младшую ничуть не обижала напускная строгость старшей, а старшая, не прекращая спора, стянула с младшей капор и проворно принялась переплетать ей косу. Что-то знакомое кольнуло мне сердце — так бывает во время рыбалки, когда под водой вдруг проглянет скользящий силуэт, подразнит серебристым плавником и вновь уйдет на глубину, оставив неясное беспокойство в душе.
В моем присутствии больше не было нужды. Я попрощался со своими новыми подругами и отправился на поиски какого-нибудь ресторанчика — физические упражнения пробудили во мне зверский аппетит. Затейничать я не стал, зашел в первый же, встреченный по пути. Он был двухэтажным, как большинство строений Обливиона. В зале первого этажа, прямо по центру, стояла пышущая углями жаровня, где, нанизанное на шампура, готовилось мясо. Рядом обретался грузный мужчина в колпаке и фартуке, с щеткой усов под крупным мясистым носом, с густыми, сросшимися на переносице бровями, из-под которых не хуже углей в жаровне полыхали черные глаза.
Я попросил принести что-нибудь из готового, а сам поднялся на второй этаж. Здесь было потише, не так по-разбойничьи откровенно пахло кухней, возле окон притулились низенькие диванчики с набросанными поверх коврами и бараньими шкурами, к которым примыкали застланные скатертями столы, отделенные друг от друга и от мира занавесками из узорчатой ткани. Габриэль рассказывал, что после нанесения рисунка такая ткань пропитывалась соком айвы, а затем долго-долго отбивалось скалкой, что позволяло добиться мягких переливов и блеска.
Я направился к угловому столу, откуда должен был открываться хороший вид на улицу, и — надо же было такому случиться! — на приглянувшимся мне месте заметил Арика. Его профиль отчетливо выделялся на светлом квадрате окна. Сюртук Арика лежал на спинке дивана, белоснежная рубашка была расстегнута у горла, открывая массивную цепь с золотым распятием, темные волосы падали певцу на глаза. Этот непривычно небрежный облик вкупе со стоявшей на скатерти бутылью темно-зеленого стекла и наполненным до краев бокалом, натолкнул меня на мысль о том, что у Арика неприятности.
«Если тебе плохо, — наставлял отец Деметрий, когда мальчишкой я прибегал к нему со своими огорчениями и обидами, — не расходуй силы на жалость к себе. Добра не нажалеешь, а еще горше сделается. Лучше посочувствуй кому-то, кому хуже тебя — и человеку поможешь, и на душе прояснеет».
Имевший возможность не единожды убеждаться в мудрости своего духовного наставника, я все же медлил, сомневаясь, будет ли уместно мое участие. Судьба решила мои сомнения. Арик отвернулся от окна, его взгляд упал на меня:
— Михаил? Какая встреча! Вот кого-кого, а вас я здесь увидеть никак не ожидал. Но садитесь же к столу, составите мне компанию. Эй, официант, налей-ка вина моему другу! — привычным движением он отбросил волосы со лба, отсалютовал мне поднятым бокалом и пропел:
Пью за дружбу нашу!
За огонь во взорах!
За сердечный порох!
Эту чашу
Пью за дружбу нашу,
За веселье до утра[1].
Я опустился на низкий диванчик напротив Арика. Чтобы заглушить чувство голода, отхлебнул вино, споро поднесенное доселе незаметным слугой. Оно было кислым. Мне казалось неловким выпытывать причины, по которым Арик пьет скверное вино в одиночестве. Глядя на его натужное веселье, на скупость жестов, на застывшее лицо, я все больше укреплялся во мнении, что эти причины — и довольно веские, существуют отнюдь не в моем воображения. Рано или поздно они должны были проявиться вовне.
— У вас есть братья? — прервал затянувшееся молчание певец.
— Только сестры, — отвечал я и, не удержавшись, проверил на прочность барьер, воздвигшийся в моей памяти — так трогают языком воспаленный зуб, мучаясь от боли и любопытства одновременно. — У меня их три: старшая — Аннет, средняя — Натали…
Барьер стоял намертво.
Арик не заметил заминки.
— А вот я был единственным ребенком своих родителей, их альфой и омегой, средоточием надежд и амбиций. К моим услугам были любые забавы подлунного мира: мохноногие пони в серебряной сбруе, сладкие и липкие марципаны, костюмчики от Жоржа и Жоры, оловянные солдатики, искрящиеся калейдоскопы, нарисованные тончайшей кистью карты для лото и анаморфоз. Стоило бросить взгляд на новую игрушку, как мне ее тотчас же вручали. Вы полагаете, я жаждал этих развлечений? Отнюдь. Стократ охотнее я играл бы с веточками и щепками, лишь бы не в одиночестве. Но — увы! — отец был слишком серьезен для возни с ребенком, а мать чересчур поглощена балами и приемами. «Что тебе подарить, Игорек?» — спрашивали меня перед каждым праздником, а то просто так. «Подарите мне брата, — неизменно отвечал я и тихонько добавлял, соглашаясь на компромисс. — Или хотя бы сестренку».
Пока Арик рассказывал, воображение рисовало мне нарядного мальчишку, идеально белыми руками переставлявшего с места на место маленькие оловянные фигурки солдат с мастерски отлитыми лицами, в разукрашенной форме со знаками отличия, с саблями и ранцами — совсем как настоящие, только неживые. Взгляд воображаемого мальчишки полнился совсем не воображаемой тоской.
— По мере взросления у меня становилось меньше времени на игры, а обязанности росли. Мой день был расписан с раннего утра до позднего вечера: физические упражнения, фехтование, танцы, гребля летом и катание на коньках зимой, верховая езда, богословские и философские диспуты, поездки ближние и дальние, охота, визиты к портному. Я в совершенстве овладел пятью иностранными языками, географией, стихосложением, этикетом — не стану утомлять вас полным перечнем. Знания я получал от лучших педагогов, за соблюдением распорядка неотступно бдили гувернеры. А потом судьба свела меня с Гаром. Между нами было много общего — ну, прежде всего, нас звали одинаково. Отец Гара зарабатывал на жизнь преподаванием, он был учителем пения. Музыка, как и прочие науки, чужими стараниями далась мне легко, Гару же приходилось учиться без сторонней помощи. Гар бредил музыкой. Имея возможность сколько угодно времени проводить со сверстниками, он добровольно обрекал себя на заточение среди флейт и клавесинов, пюпитров и скрипичных ключей. Оттого, что Гар всюду таскался с отцовскими нотными тетрадями, вечно что-то насвистывал, отстукивал ритмы на всем, что попадало под руку, он казался мне блаженным.
Но такая настойчивость не могла не вызывать уважения. Я охотно растолковывал Гару то, что вложил в мою голову его отец, ведь мне это ничего не стоило. Вот уж воистину, нomines, dum docent, discunt[2]. Пока я выискивал подходящие слова, верные сравнения, яркие метафоры, музыка незаметно прокралась в мое сознание и зазвучала там сперва тихо, а затем в полный голос. Я сам не заметил, как тоже принялся отстукивать ритмы на столах и буфетах. О, Гар понимал меня лучше прочих. Ему-то дано было слышать переливы созвучий с самого детства. Он родился с этим талантом, который, благодаря имеющимся у меня знаниям, я помог ему выпустить в мир. Напару мы бродили по окрестностям Обливиона, находили пещеры, где пели дуэтом на радость летучим мышам. Вы не знали? В пещерах великолепная акустика, звук отражается от каменных сводов и возвращается со всех сторон, заключая вас в кокон, отворяя второе дыханье в груди.
Благодаря нашей дружбе-соперничеству я достиг немалых успехов. Батюшка взялся покровительствовать оперному театру, немало расточительствовал на костюмы и декорации. Мое имя стояло на всех афишах, меня привечали. А Гар тем временем давал концерты на улицах, подмостками его был деревянный ящик, слушателями — обитатели развалившихся лачуг. Мне это казалось несправедливым, разве я не научил друга всему, что знал? С моей подачи директор театра предложил Гару контракт. Не думайте, я делал это не за благодарность, а ввиду нашей давней дружбы, которой очень дорожил. Но выходит, дорожил ею я один…