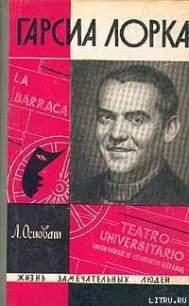Земля в иллюминаторе (СИ) - Кин Румит (полные книги TXT) 📗
— А как получилось, что до ее пощечины ты не знал, за кого она собирается голосовать на гумпрайме? То есть, я понимаю, что ты сидел не вместе с ней, но вы наверняка чуть-чуть общались хотя бы в перерыв.
— Нет, все было не совсем так. Мы начали спорить задолго до моего выхода на трибуну. Сначала я не собирался делать этого сам. Я просил ее выступить и от своего имени пересказать им мои мысли. Я знаю, ее послушал бы даже Джифой. Я очень на нее надеялся, но в этот момент вдруг окончательно выяснилось, насколько она меня не понимает. Тогда я сказал, что сделаю это сам. И вот тут мы по-настоящему поругались. Она хотела меня увести. А я возразил ей, что являюсь членом общины и что перед гумпраймом наши с ней права почти равны.
— Никогда не видел, чтобы выступали дети. Даже не слышал о таком. Хотя, наверное, дети выходят на трибуну, если оказываются свидетелями в суде — но это происходит раз в десять лет.
— И мама твердила о том же. Однако дети голосуют. И нет ни одного закона, который бы запрещал детям делать что-либо в гумпрайме. А раз закона нет, то ты, я и даже твой брат — полноправные члены общины. — Тави оглянулся на Ашайту, ходившего-танцевавшего по другой стороне теплицы. Тот тянулся руками к сферическим донышкам горшков, но не касался их, а будто тек мимо ладонями.
— Отец говорил, — вспомнил Хинта, — что еще до моего рождения кто-то из семьи Джифоев пытался переписать законы Шарту. Там, среди прочего, было предложение ввести минимальный возраст голосования. Но против этого восстали крайняки: у многих из них многодетные семьи, и голоса их детей — часть их политической силы.
Тави кивнул.
— Тогда мама сказала, что голосовать я могу, как мне вздумается, но из административной ложи выходить не должен. Я ничего ей не обещал. Просто дождался подходящего момента и сделал все по-своему.
— Страшно было решиться?
— Сначала — почти нет. Сначала я думал только о том, как сильно мы разошлись с мамой. И о том, что кто-то должен сказать эти слова. И что никто не скажет их кроме меня.
— А потом? Когда ты стоял перед всем Шарту?
— Да, страшно. Знаешь, любой встречный может тебя оттолкнуть и не принять. Но перед всем залом приходит мысль, что тебя сейчас оттолкнут сразу две тысячи. — Тави потряс свой баллончик, потом перестал опрыскивать растения и нахмурился, как человек, пытающийся вспомнить подробности дурного сна. — Я понимал, что я слишком маленький, что меня никто не примет всерьез и что я собираюсь сказать вещи, к которым почти никто здесь не готов. И это было тяжело, даже тяжелее, чем влезть в драку со старшими подростками. Ты заставляешь себя шагать вперед, а каждая клеточка твоего тела хочет убежать назад. — Он протянул Хинте свой баллончик. — Кстати, у меня кончился аэрозоль.
Хинта отдал ему свой распылитель, а сам пошел за новым — круглый шкаф-чулан с полками снаружи и бочкой внутри был устроен в самом центре теплицы, где сходились все дорожки лабиринта грядок.
— Тогда почему ты пошел? — вернувшись, спросил он.
В ответ Тави едва заметно пожал плечами.
— Я просто подумал о том, что на моем месте стал бы делать Джилайси. Если тот без оружия выходил против целых армий с криком «остановитесь», то неужели обычный человек вроде меня не может выйти против жителей одного мирного поселка? Мне показалось, что это пропорциональное сравнение: я настолько же меньше героя, насколько Шарту меньше ледовых дивизионов Притака.
— Ты не обычный.
— Почему?
— Обычный бы не вышел. На эту трибуну не выходят как ты. Она вроде бы для всех, но те, кто на нее поднимается без приглашения, как правило, уже наделены властью — богаты, или выбраны на голосовании, или владеют специальной областью знаний, в которой все, кроме них, профаны.
— Я, в конце концов, и не вышел. Только подставился под мамину пощечину на глазах у всех.
— Нет, ты вышел. Просто шериф тебя развернул. — Тут Хинта вспомнил, как хотел отметить роль Шедры Киртасы во вчерашних событиях. — Кстати, что ты про него думаешь?
— Про кого?
— Про шерифа.
— Не знаю.
Хинта на мгновение озадаченно застыл.
— А мне показалось, что он говорил лучше всех. И не только это. Он как будто занимает среднюю позицию между тобой и такими, как Джифой. Я слушал его и думал, что он пример той золотой середины, на которой мы с тобой можем встретиться и остановиться. Я думал, что хочу быть на него похожим.
— Разве? В его плане была только война. Как будто омары — стихия, а не живые существа. Да, шериф на самом деле презирает Джифоя, он даже говорил другим — не с трибуны, а тихо — что Листа губит дело и что его не надо больше пускать в бой.
— Да?
— Да. В административной ложе слышно много такого, что не звучит для всех. Но в остальном Киртаса похож на большинство людей в Шарту.
— Но он точный и спокойный. Он почти как герой — маленький герой для нас: знает, как надо воевать, спасает остальных, командует в бою. А как он смотрел на людей! Под его взглядом они переставали суетиться и кричать. Он совсем не похож на остальных.
— Ты путаешь «что» и «как». Киртаса знает свое дело. Это всегда здорово, когда человек в чем-то разбирается. Он действительно был вчера самым серьезным из всех ораторов, привел больше всего фактов и лучше всего объяснил свой взгляд. Но он стоит на тех же позициях, что и весь остальной Шарту.
— Нет, — запротестовал Хинта, — не только это. Ты помнишь, чтобы он хоть раз обругал омаров?
Тави серьезно задумался.
— Не помню. И я ему за это благодарен. Но это не значит, что он ближе ко мне. Просто он профессионал в тех вопросах, в которых остальные — оголтелая толпа. Он знает про омаров больше, чем все мы. И, разумеется, так и должно быть: он — шериф окраинного поселка, и половина его работы — омары. Конечно, он не будет поносить их, как жаждущие мести простые мужики. Но он будет убивать их — по причинам и без причин.
Хинта покачал головой.
— Может, тебе стоило поговорить с ним до своего выступления? Или даже сейчас. Если кто и сумеет поймать омара, то он.
— Я фактически сделал это на трибуне. Если кто и слышал все, что я сказал, то это шериф.
— И что он сказал?
К щекам Тави прилил румянец.
— Иди к маме, мальчик. Это была его главная фраза, которую он повторил мне трижды. Иди к маме, мальчик. Ни у кого нет времени тебя слушать. Ты не будешь здесь выступать.
— И все? — разочаровался Хинта.
— Еще он сказал, что я бы не нес эту чушь, если бы видел хоть одного живого омара. И что зал — как бомба, а я — дурачок, пытающийся поджечь фитиль.
— Он тоже говорил про гнев толпы?
— Не знаю. Это ты и моя мама говорили про гнев толпы. А шериф как будто испугался чего-то большего. Как будто у них с председателем уже был план, а я мог его сломать. Как будто была какая-то еще опасность — опасность в людях, стоявших в пяти метрах от нас — которой они боялись больше, чем омаров… Это еще одна причина, по которой я со вчера не в себе, но до сих пор у меня не было времени об этом думать. Хинта, скажи, а в Шарту может начаться что-то вроде гражданской войны?
Хинта нахмурился.
— Мы не литская ойкумена. Невозможна война в таком маленьком месте, как один поселок. У нас буквально один воздух на всех. Если начать делить ресурсы с оружием в руках, все просто погибнут.
— Да, я понимаю. Но мне показалось, что они боятся вовсе не за меня. Им плевать было — ну, засмеяли бы меня люди. В самом крайнем и невероятном случае мама лишилась бы работы, и мы превратились бы в изгоев, перед которыми закрыты все двери. По крайней мере, она меня этим пугала — хотя и не представляю, кем бы Джифой мог ее заменить. Но там, на трибуне, было что-то другое. Как будто в поселке уже сформировалась некая третья сила. Хотя нет, «третья сила» это слишком конкретная гипотеза. А там не было ничего конкретного, лишь какое-то напряжение, какое-то настроение. И я не понимаю, что это, но оно меня тревожит.
— Может, вопреки твоим ожиданиям, они все-таки приняли тебя всерьез. Тогда они могли испугаться, что ты склонишь лишних сто человек в пользу «Джиликон Сомос».