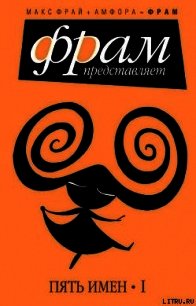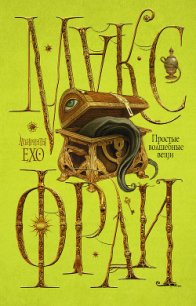Пять имен. Часть 2 - Фрай Макс (читать полные книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
Директор завода мне показался на первый взгляд человеком симпатичным и умным настолько, чтобы поделиться с ним своим открытием. И я сделал это. Я сказал взрослому человеку, отцу детей и руководителю производства: "Комары не кусают меня потому, что я с ними договорился."
Это было ошибкой.
Два месяца подряд он пытался вытянуть из меня ответ, который его бы вполне устроил: следил из окна кабинета, выжидая когда же, наконец, я стану мазаться своей чудо-мазью, врывался без предупреждения в будку, садился напротив и пытался высидеть десять-пятнадцать минут, после чего его физиономия в течении нескольких дней напоминала пареную репу. Кончилось тем, что он меня уволил. Поскольку я не держался за место (скорее напротив), увольнение меня нисколько не огорчило, я даже зашёл к нему в кабинет и пожал протянутую на прощанье руку.
— Ну что ж, — сказал он, — надеюсь, тебе попадётся место, где ты сумеешь в полной мере проявить свои таланты.
Наверное, он имел в виду террариум. Хотя, возможно, он совершенно искренне хотел пожелать мне удачи.
Комаров в таком количестве с тех пор я не видел нигде и никогда.
Как я ждал Годо
Однажды по делам оказался в Яффо. Условился с клиентом о встрече, и, дожидаясь его на перекрёстке Иерусалимского бульвара и одного из горбатых яффских заулков, привалился спиной к неказистой железной двери, которая внезапно отворилась внутрь. От неожиданности я покачнулся и с трудом сохранил равновесие. Выглянул бандитского вида бородатый мужчина, покосился недобро и с сильным арабским акцентом гаркнул:
— Ты чего тут делаешь?
— Жду, — честно ответил я.
— Кого?
И тут чёрт меня дёрнул сказать:
— Годо.
— А… понятно, — сказал араб и, удовлетворённый ответом, собрался было закрыть дверь, но вдруг помедлил и, будто припоминая что-то, сказал:
— Знаешь, сегодня ты его не жди, не дождёшься…
— Это почему?
— В отъезде он. Уехал.
— Куда?
— В Иорданию.
У меня челюсть отвисла.
— В Иорданию?
— Ага, — ответил араб, и совершенно прозрачными невинными глазами на меня поглядел: за что купил, мол…
— И что же он там делает, в Иордании?
— А я почём знаю? Он мне не докладывает. Ну всё, бывай. — и дверь потихоньку прикрывает.
— Постой, — говорю, — не может он быть в Иордании, я с ним час назад по телефону говорил.
— А… — сказал араб, — ну тогда жди.
И был таков, подлец.
С тех пор всё вспоминаю этот разговор и думаю: может, и вправду — уехал?..
А мы и не знали…
Александр Шуйский
Сказки первого часа ночи
буковки
Ношу и ношу недоумение в голове: как это люди не боятся ложиться спать? Ведь как в гроб — на спину, руки неживые и холодные, подбородок запрокинут, свет погашен, соседская музыка из-за стены как хор далекий и невнятный — кто их знает, пень иль волк. Умирать боятся — спроси любого, эй, ты, молодой-здоровый-сильный-старый-больной-убогий, боишься умирать? — скажет ведь, конечно, боюсь, кто не боится смерти, смерти боятся все, боятся больше, чем Бога, ведь о нем никогда ничего не знаешь наверняка, а смерть — вот она, вокруг и повсюду: в раздавленных голубях, в сбитых машинами кошках, в бомжах, подохших в луже собственной мочи, темной на асфальте, все это каждый день и помногу, стоит только из дому выйти.
Так почему? Почему, скажи мне, никто не боится засыпать каждый вечер — ведь это точно так же, об этом хорошо знают дети, — дети и сумасшедшие, при здоровых почках и вообще потрохах, они каждую ночь напускают полную постель страха, холодного и мокрого, с дурным запахом. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, с возрастом, с выздоровлением, с умением вскакивать на горшок среди ночи, как памперс не нужен станет — так, значит, вырос. Дети потом забывают, им взрослые объясняют, что в этом мире как, иначе же спать совсем невозможно, как спать, если знаешь, что это такое — сон? А сумасшедшие помнят, и кричат во сне, и просыпаются со слезами и струйкой слюны в углу рта. Не бойся, маленький, не бойся, родной, это пройдет, вот салфетки, вот успокоительное, мы отобьем твою упрямую память, как отобьется начисто — так, значит, выздоровел.
Каждое утро мои подобранные на самых разных помойках кошки, которые, сбросив котячий пух, уже не спят никогда, только дремлют, потому что они-то хорошо помнят, что такое сон, — каждое утро они вспрыгивают мне на одеяло и принимаются меня, холодного и неживого, — греть, тормошить, облизывать, тарахтеть, как сверчки за печкой, всячески давая понять, что если я посплю еще немного, уже не проснусь никогда. Если бы не они, я, наверное, уже очень давно не мог бы спать, потому что боюсь не проснуться или проснуться не там, — а будильники я терпеть не могу, такая пародия на трубный глас, мерзкая и дребезжащая, репетиция каждое утро, и кто-то ведь почитает это гарантией, просыпается, вскакивает, бежит на ежедневную репетицию Апокалипсиса — каждый день такого же настоящего, как звон будильника в качестве серебряных труб.
Я никогда не слышу будильника. Архангелу придется выпускать моих кошек, чтобы поднять меня в Судный День, и то неизвестно, встану ли я.
песенка про меня
Я — перевертыш.
Меня можно подбросить вверх, как монетку, раскрутить в тугом воздухе, проследить, какой стороной упадет — одной, другой или третьей. Была еще четвертая, но я ее отдал. Сначала, думал, поносить, а потом она так пристроилась хорошо, четвертая сторона моей монеты, что я уж и не помню ее своей, так, было когда-то что-то, нет, не со мной, с тобой, уже тогда с тобой, а я просто знал с самого начала, так получилось.
Я близорук, неумел и, видимо, талантлив. Ничего не могу довести до конца, боюсь собственной тени, особенно когда она смотрит со стены, выше чуть ли не на голову, темная, мрачная, грозит темным пальцем, обещает неприятности за несделанное. Она гоняет меня с теплых насиженных мест мыть посуду, ходить по магазинам и прибирать постель — в тот самый миг, когда мне это больше всего некстати. И почему, ну почему я всегда это делаю за всех троих, ведь талантлив именно я, оставьте меня в покое, дайте поработать, сделайте что-нибудь сами, ведь у меня только треть времени, треть сна, треть головы, причем эта треть всегда отчаянно болит и просит кофе. Но остальным нет до тени никакого дела. Они не в родстве с нею, они не боятся грозящего пальца, им все равно, написан ли у меня курсовой и в каком состоянии квартира, их заботит только одно — две трети моего времени, две трети моей головы, две трети моего давно разбитого натрое сердца.
Чаще всего они напоминают о себе ночью, должно быть потому, что один из них — луна. Его настроения переменчивы, он светел и легок, он всегда в небе, ясный, белый, звонкий, древний, говорящий-с-драконами, безумный сказочник цвета сумерек. Но иногда, особенно осенью или предвещая нелегкую погоду на неделю вперед, он мрачно вползает на бледное от страха небо, багровый, распухший, чумной и чужой. Тогда появляется третий, потому что он старше. Старше луны, старше ветра перемен, старше бледного неба. Он способен стереть безумие с луны белой рукой с тяжелым перстнем на третьем пальце, одного его взгляда довольно, чтобы я пошел мыть посуду, а я — выправлять в дурном настроении написанную сказку. Свою треть слез, страха, неуверенности, неумения и лени он либо ловко разделил между нами, либо скрывает так хорошо, что не найдешь даже с отбойным молотком. Если у луны хорошее настроение, он может все. Он великолепен и неумолим как смерть, как демон безводной пустыни, демон-убийца.