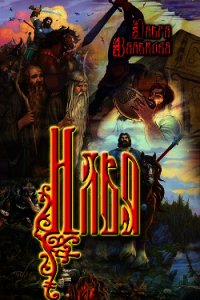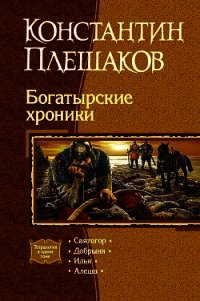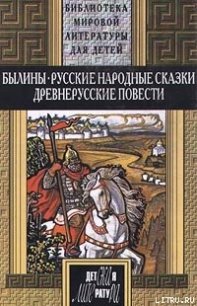Богатырские хроники. Театрология - Плешаков Константин Викторович (книги без сокращений .txt) 📗
В день собрались и выехали в чисто поле.
Как водилось в таких случаях, ехали туда, куда хотел тот, кто грусть-тоску разгонял. Илья решил поехать на северо-восток от Киева, но не в Новгород, а южнее, почти на самые рубежи: захотелось ему поездить по тамошним холмам, уходящим в небо. Оттуда не так далеко было и до степей, а в таких местах часто происходили случайные схватки: Степь пробовала стрелой Русь; скитались здесь и те, кто по каким-то причинам не хотел показываться в городах, и были среди них люди, которых богатырю надо было поучить мечом или словом.
Договорились: во всех схватках первое слово за Ильей, первый подвиг — его.
Дорогой Илья развеселился. Вдали от хором, где пировали, он снова почувствовал себя молодым. Я всегда знал, что Илья, сам того не ведая, кормится Силой земли. Мы с Добрыней, я думаю, могли бы богатырствовать и на Востоке, и в западных странах. Илья же был привязан к Русской земле. Связь эту объяснить я не могу, потому что не остров же Русская земля, Чтобы обладать особой Силой: перетекает она в другие земли. Но, по-моему, завяжи Илье глаза, вози его по Разным странам, запутывай, а привези в Русскую землю — почует ее, распрямит плечи, забогатырствует привольно. Самый русский богатырь среди всех был Илья. Святогор вот даже под старость уединился там где уже веет нерусским Югом, в юго-западных предгорьях. Никита, Добрынин Учитель, все рвался к грекам и в Святую землю, туда, откуда пришел новый Бог. Мы с Добрыней были вообще жадны до новых земель, А Илье все, что начиналось за Русской землей, было тягостно и неинтересно. Словно выдохнула Русская земля свою Силу и создала любовно для себя особого богатыря. Мы посмеивались над Ильей, но в свое время пообещали ему после его настойчивых просьб, что, если сложит он голову на чужой земле, привезем мы его домой и похороним тут. Для себя я ничего подобного пока не хотел: не все ли равно, где будут гнить твои кости, а что будут тащить твое окоченевшее тело куда-то, так об этом даже подумать противно.
У Добрыни было другое на уме: что станется с ним после смерти, куда душа его попадет? А я и об этом не думал. Не для того человек создан, чтобы о загробье размышлять. В том мире уже не человеком будет, а иным чем-то. А я себя без тела представить не могу: телом я живу (Добрыня — душой, Илья — землей). А уж что боги или новый Бог сделают со мной после смерти — об этом думать бесполезно, все равно представить себе этого ты не сможешь. Хотя знавал я случаи, когда люди настолько упорно про это все думали, что бежали на Смородинку спрашивать: что со мной будет. И не возвращались со Смородинки: смеялась, должно быть, речка — ах, любопытствуешь? Я согласна ответить — на, смотри, ты уже на том берегу, я тебя перенесла, а обратно я еще ни одного человека не переносила. А как полетит, как понесется моя душенька на Смородинку, как нырнет в черные янтарные воды, так там ей все концы и начала и откроются. Все в свое время, и не надо смерть переносить в жизнь. Дорогой говорили мы о разном, в том числе и об этом. А когда надоедало говорить, пускали коней взапуски, и неслись так, как только богатыри умеют. Летишь, словно сам ветер творишь из спокойного воздуха. А остановишься, смотришь — кольчуга твоя в мошках, разбившихся о нее, пока ты летел. Смахнешь мошек, которых полет твой погубил, и дальше.
Добрались мы до холмов, любимых Ильей. Места там действительно необыкновенные. Даже и не холмы это, а какие-то шары, утопленные в землю почти по самую макушку. Пересекаются эти округлости глубокими балками. Стоишь на одной вершине — а вокруг гигантские желто-зеленые волны, и кажется, что за ними ничего нет, а есть только одна крутая дорога — прямо в небо. В балочках — рощи, елки топорщатся, а по холмам зайцы шныряют; видишь, как трава под лапами их быстрыми назад несется, словно зайцы холмы-шары эти крутят. Привольная земля, и простора в ней едва ли не больше, чем в степи: степь во все стороны ровнехонько уходит, и далеко небо, а здесь оно близко — за каждым холмом, и кажется — влезешь на макушку и рукой потрогаешь.
И стали мы по холмам этим ездить да в разные стороны поглядывать, не покажется ли из балочки какой подвиг для Ильи. Долго ездили, мне уже надоели и холмы эти, и близкое небо, и решил я, что надо ехать в другие места; не шел подвиг в руки. Но на седьмой день почуял я, что за нами кто-то едет.
Не сразу научился я такое чувствовать, но лет десять уж умел.
Стал я оглядываться, от товарищей отрываться и по балочкам рыскать, но никого не заметил: видно, тот, кто за нами следил, меня тоже чувствовал и до времени скрывался.
Сказал я об этом товарищам.
Обрадовался Илья:
— Подвиг за мной ходит!
Разбежались мы в разные стороны, но никого не нашли.
— Померещилось тебе, Алеша, — разочарованно бурчал Илья.
— Да не померещилось, — сказал Добрыня. — След от коня я видел. Не знаю, кто за нами ходит, но не дух это бесплотный, а всадник. Умел и до времени скрывается, знает, что мы его ищем.
— До какого времени? — спросил Илья.
Добрыня пожал плечами:
— Ждет он чего-то. А того вернее — играет с нами, умение свое показывает. Так что потерпи, Илья.
Два дня скитались мы по холмам; преследователя нашего не искали, решили: не будем его веселить, сам покажется, когда надоедят ему игры эти.
И точно. На третий день оглянулся я и увидел: на вершине холма лицом к нам неподвижно стоял всадник.
Он был далеко, но глаза у меня зоркие, и я разглядел, что богатырского он был сложения, даже не просто богатырского, а на Илью похож: громаден.
Илья сверкнул глазом:
— Не поедем навстречу! Последень этот сам пускай нас ищет.
И началось странное: ехал за нами всадник, видели мы его все время, но не приближался. Удивительное было дело, первый раз в моей жизни, и уж хотел я в раздражении наказать его за игры эти, но — первый подвиг Илье.
Еще день ехал за нами всадник, и ночевал поблизости, и гадали мы нетерпеливо: кто бы это мог быть, но нетерпения своего твердо решили не показывать — мошка и мошка ты, чтобы на тебя богатыри внимание обращали.
Наутро всадник сел в седло и пустил коня рысью к нам. Надоело ему в игры играть, терпение наше испытывать. Мы не останавливались, и вот уже ехал он за нами в двадцати шагах. Мы не оборачивались даже. Едут себе богатыри и едут, а до тебя, игрун, нет им дела. Хотя шея так сама и поворачивалась — разглядеть этого умника, а в голове пело: «Подвиг, подвиг!» К полудню ускорил шаг всадник и с нами поравнялся, так и не заговаривая.
Скосил я глаз — могучий всадник, таким, наверно, Илья в молодости был; издали за богатыря примешь. Лет двадцати пяти, русый, и лицо вроде знакомое. Разозлился я на себя: что это со мной, если понять не могу, где лицо это раньше видел?
Ехали так, пока солнце за холмы скакать не стало.
Заговорил всадник:
— Искали меня, богатыри?
— Кто ты такой, чтоб искать тебя, — с напускным равнодушием сказал Илья; но я-то чувствовал радость в его голосе: близок, близок подвиг!
— Сокольником меня зовут.
— А по мне, хоть бы тебя и самим Соколом звали, — все так же промолвил Илья, глядя в сторону.
— А все же искали вы меня, а не нашли! Я, если захочу, под землю провалиться могу!
— Захотел бы ты сейчас.
— Не шути, Илья, я сразиться с вами приехал!
Илья остановил коня и поворотился к всаднику.
Маленькие медвежьи его глазки были совершенно непроницаемы.
Вот как! Честный бой!
Честный бой сделался в наше время большой редкостью. Это во времена Святогора и раньше съезжались богатыри, а чаще — просто искушенные воины (другим были заняты богатыри) и бились — до победы, Иногда до смерти. Откуда повелся этот глупый обычай, Неизвестно. Не сходятся лоси в лесу, чтобы биться просто так, да еще до смерти. Не сходятся и медведи и волки. Берегут звери жизнь, а люди — нет.
Как глупо это ни было, отказаться от честного боя считалось позором. Какие бы подвиги ты ни совершил, что бы сделать ни собирался, а подставь самую жизнь свою под меч в бессмысленной схватке — иначе молва ославит тебя, позором покроет.