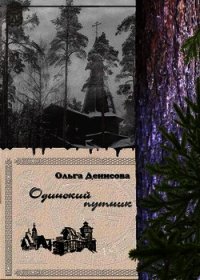Вечный колокол - Денисова Ольга (версия книг .TXT) 📗
Млад вспомнил свой «подвиг» на войне с татарами — а ведь кто-то заложил порох под лед! Да так, что немцам даже в голову не пришло, что напротив их лагеря идет такая работа! И кто-то поджег огнепроводные шнуры…
Взрыв стал сигналом к отступлению — все понимали, что конница обойдет полыньи выше по течению Великой. Но им придется идти лесом, искать пологий спуск, и при этом, ступая на лед, ждать еще одного взрыва… А солнце перевалило за полдень!
Ландмаршал быстро оправился от удара — полки ландскнехтов ударили в западную оконечность строя ополченцев, отрезая путь к отступлению, туда, где их не могла достать русская конница, завязнувшая в центре боя. Со стен по наемникам ударили лучники, но стрелы с трудом пробивали тяжелые доспехи.
Теперь ополчение вело бой на две стороны. Тихомиров развернул студентов против ландскнехтов — ему ничего больше не оставалось. Студенты дрогнули — слишком свежо было воспоминание об Изборске. Наемники отличались от хлебопашцев не только опытом, силой и хорошим вооружением — они ничего не боялись и, казалось, не щадили своих жизней. Млад думал, что впечатление это обманчиво — он не мог поверить, что люди, идущие на войну за деньги, желают победы так же как те, кто защищает Родину. Тогда ему не приходило в голову, что это их ремесло, и, как каждый ремесленник, они гордятся своей работой.
Насколько легко ополчению далась победа над кнехтами, настолько же тяжело пошел для них бой с наемниками. Млад не успевал подставлять щит под удары коротких мечей, ему ни разу не удалось пробить крепкую кирасу ландскнехта, студентам же, с их топорами, оставалось только защищаться — деревянное древко не могло сравниться с тяжелым железом меча. На помощь ополчению из крепости вышел резерв — около тысячи ратников, что готовились принять врага на стенах. В победе защитников крепости не было никаких сомнений, речь шла только о ее цене… И немцы сделали все, чтоб цена эта оказалась высокой.
Солнце клонилось к закату, когда конница прорвалась к стенам Пскова — для ландскнехтов не было никакого смысла продолжать бой, но они дрались с тем же упорством, что и в самом начале схватки. Они вообще не знали усталости. Млад с трудом поднимал меч, его силы едва хватало на то, чтоб не дать пробить себе голову. Рука, сжимающая рукоять, онемела, пальцы словно свело судорогой, левая же кисть с отбитыми пальцами вот-вот должна была разжаться и выронить щит.
Ландмаршал дал приказ к отступлению, и наемники отступили бы, но путь им преграждала конница, им ничего больше не оставалось, как пойти на отчаянный прорыв: поразительно, как быстро их командиры умели принимать решения, и как быстро потрепанные полки смыкали ряды. Для боя с конницей у них были только короткие алебарды с гранеными копьями на концах, и строй мгновенно выставил их вперед.
Конница тоже готовилась встретить прорыв наемников — князь Тальгерт махнул руками, приказывая ополчению разойтись в стороны.
— Освободите им дорогу! — крикнул Тихомиров студентам, — пусть уходят!
— Ребята, в стороны! К стенам, отходите к стенам, — подхватили сотники его приказ.
Оказавшись вдруг без противника, студенты растерянно смотрели по сторонам, опустив руки. И двинулись к стенам вразнобой, толкаясь и налетая друг на друга.
— Вдарить по ним напоследок… — услышал Млад сзади и оглянулся: кто, как не Ширяй, мог это предложить!
— Я тебе вдарю, — огрызнулся он, — к стенам. Быстрей. Они сейчас вас просто сметут!
— А на щиты? — тяжело дыша, спросил с другой стороны Добробой, и его подтолкнули сзади.
— На какие щиты? — рявкнул Млад, пропуская его вперед, — отходим!
Но ландскнехты не стали дожидаться, пока ополчение освободит им путь — для плотного строя, готового столкнуться с конницей, рассеянные ряды пехоты не были препятствием. С воинственным воем наемники пошли на прорыв: ополченцы едва успели выставить щиты, когда остроконечные копья на саженных древках врезались в разрозненную толпу.
Ни о каком перестроении студентов не могло быть и речи — кто смог, тот отступил. Млад развернулся лицом к строю наемников, отталкивая ребят спиной и надеясь прикрыть их щитом.
— Мстиславич! Я с тобой! — рядом встал Ширяй.
— Отходи! — успел крикнуть Млад, когда с другой стороны от него встал Добробой, и еще человек пять, выставив щиты вперед, образовали заслон для остальных отступающих.
Млад мог бы отойти еще на несколько шагов, но не смог сдвинуть с места это жалкое прикрытие.
Ландскнехты врезались копьями в их щиты. Млад видел, как Ширяя удар отбросил в сторону, он видел даже, как покатился по снегу его щит, видел, как двое ребят падают под ноги наемникам, и как копье алебарды бьет в неприкрытый бок Добробою, видел, как взлетает шестопер над головой у него самого, и как опускается вниз, на лицо, и подумал еще, что и дед его не любил шлемов с наносником — неудобно смотреть. Наверное, он успел нагнуть голову, потому что в глаза ему ударил свет заходящего солнца, и показался сначала белым, а потом черным.
Млад открыл глаза и увидел сумерки. Серое сумеречное небо, на котором еще не появились звезды. Сначала он не слышал ничего, кроме звона в ушах, и не видел ничего, кроме этого неба — странно широкого, пустого и однообразного. Он медленно вспоминал, где он и что с ним, пока звон в ушах не превратился в низкий вой, прерываемый рыданием. Млад почему-то подумал о Хийси, и о той ночи, когда умер Миша. Неясная, неосознанная еще боль шевельнулась в груди — сознание возвращалось медленно, невозможно медленно. Неужели человек может выть, словно пес? А ведь это воет человек… Холод идет по телу мурашками от этого воя, ледяной холод. И небо над головой холодное и пустое… Дана не велела ему сидеть на земле, но он вовсе на ней не сидит, а лежит.
Млад шевельнулся, надеясь, что движение поможет ему прийти в себя: в голове что-то всколыхнулось, и к горлу подступила тошнота. И сразу же вспомнился летящий в лицо шестопер, его острые перья, грозящие размозжить переносье. Наверное, он все же нагнул голову, потому что болел лоб, а не нос.
Но что же он воет и воет? Точно, как Хийси… Какая тоска, смертельная тоска!
Сознание его словно сопротивлялось, словно не хотело выходить из пустоты, не хотело смотреть на землю — и глаза тупо вперились в темнеющее небо. Потому что стоит только вспомнить, где он и что с ним, сразу же придется признать то, чего признать он сейчас не в силах. Блаженная пустота! Еще несколько мгновений можно думать, что мир вокруг тебя прекрасен…
Млад рывком поднялся, и земля закачалась перед глазами, заходила ходуном, грозя опрокинуться. Он опустил веки, и почувствовал, как пространство закружилось вокруг него, увлекая в глубокую воронку, на дне которой плещется пустота сумеречного неба. Он распахнул глаза и сжал в руках снег, чтоб не упасть.
На западе небо еще светилось бирюзой, по Великой реке с черными пятнами трещин бежал ветер, засыпая снегом тоненький ледок в глубоких провалах большого льда. Лес на другом, пологом, берегу, приподнимался темным гребешком: черно-серый мир уходил во тьму зимней ночи…
Человек выл, задирая лицо к небу, и, увидев его очертания на светящемся бирюзой небе, Млад не мог больше притворяться, что ничего не помнит. Он поднялся на ноги, поставив их пошире, и двинулся вперед, шатаясь из стороны в сторону. И пройти-то надо было всего несколько шагов… Чтоб убедиться… Чтоб от надежды не осталось и следа…
Он грузно упал на колени рядом с воющим Ширяем и, опираясь в землю кулаком, заглянул в лицо Добробоя: мертвые глаза смотрели в гаснущее небо. Под ним почти не было крови — клинок вошел в сердце сбоку, и остановил его.
Слезы лились по щекам Ширяя, и мокрые дорожки бежали на голую шею; вспотевшие под подшлемником волосы смешно топорщились в разные стороны — он держался руками за плечи, и от напряжения у него побелели ногти. Хотел бы Млад, так же поднять голову к небу и завыть, заплакать… Он снял шлем и долго возился со шнуровкой подшлемника: морозный воздух только усилил боль в голове, обхватив лоб ледяным обручем.