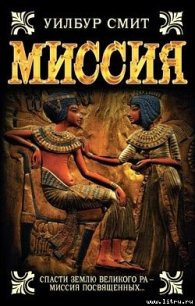Путь эльдар: Омнибус (ЛП) - Кинг Уильям (е книги TXT) 📗
Свет становился ярче по мере того, как они преодолели крутой поворот и вскарабкались по второму пролету. Дуговой светильник над дверью в жилой ярус был поврежден — у Мерлок так и не дошли руки, чтобы заставить Токуина найти время для его починки — и поэтому они вошли в разгромленное общежитие, наполненное мигающим светом и плачем.
Плачущий голос принадлежал Клайду, и, всматриваясь сквозь мерцание и мигание света, падающего сверху, Джанн смогла его разглядеть. Он сгорбился в гнезде из спутанных штор и постельных принадлежностей, выдранных из отделений спального отсека и теперь забивавших собой проход. Посреди всего этого Клайд стоял на коленях, наклонившись к одному из сорванных карнизов для штор и приложив одну руку к лицу. Это была столь классическая поза скорби, что выглядела неестественной, как будто Клайд был центральной фигурой в одной из ярко освещенных «живых картин», которые актеры изображали перед храмами в ночи священных праздников.
При этом образе разрозненные мысли Джанн словно зацепились друг за друга и задвигались в согласии. Озарение было столь же мимолетным, как яркий лунный луч, копьем пронзивший облака, но столь же сильным. Она стряхнула со своей руки Мерлок и побежала по проходу настолько быстро, что как будто парила над мусором и обломками, и упала на колени у ног Клайда.
— Клайд? Клайд, это я, — хотя если бы ее спросили, кто это — «я», она бы ответила с трудом. — Клайд, все в порядке. Тебе не надо горевать. Мы не… не такие. Мы не… — Это казалось таким ясным в тот сияющий, залитый лунным светом момент, но сейчас она едва подыскивала слова. — Мы не те, кто мы есть, Клайд. Я думаю, что поняла. Я видела нас во сне, как… — и голос застрял в ее горле, потому что она хотела сказать «нас самих» и хотела сказать «других», и оба этих слова были верны — и ни одно из них не было верным.
— Ты не понимаешь, — сказал ей Клайд. Голос его был искажен — грудной, урчащий, каким Джанн его знала все те годы, что они работали вместе, а не чистое контральто, которым, как она полагала, он должен был быть на самом деле. — Он ушел, он… — и тело Клайда начало сотрясаться, уже не в плаче, но в более глубоких спазмах. Он начал кричать, выплевывая слова почти что в визге.
— Умирающий-умер-он мертв-он все же умрет-он умирает!
Джанн пыталась удержать руки мужчины, тихо спеть ему нежные лунные песни, чтобы успокоить, и все же она понимала. Он ушел, чтобы умереть. Кто ушел? Джанн не могла сконцентрироваться на имени — два различных звука скользнули в ее голову и тут же исчезли — но она знала, что он был (поборником-сыном-учеником-подчиненным-последователем) Клайда, и знала, что, кем бы тот ни был, он ушел на смерть. Он ушел сражаться. Он уже был мертв, и его оплакали. Он лежал, умирая, его раны были смертельны, а кровь — ярко-красного цвета, как луна, что начала прибывать по его смерти, чей свет оросил зеленую и белую луны и потопил в себе их красоту.
Он был всем этим, во всех этих состояниях, всегда идущий навстречу своей судьбе, всегда лежащий сраженным, лежащий мертвым. Во всех своих состояниях он был вне времени, как та сцена, которую они разыгрывали сейчас — скорбящий Клайд, Мерлок, нависшая над ними с поднятым копьем, Джанн, стоящая на коленях и успокаивающая, рассказывающая о снах. Даже несмотря на то, что она боролась со слезами горя и страха, форма, принятая всеми тремя, казалась столь верной, как будто она совершала движения танца, для которого была избрана, еще когда ее собственная мать лишь ждала появления на свет.
Она, кажется, услышала легкий вздох узнавания откуда-то со стороны, но не могла разглядеть никого, кроме них трех.
Она снова взглянула на Клайда. Тот замотался в зеленую штору и разорвал перед своей блузы так, что ее края теперь выглядели так же, как грубые гирлянды из рваной ткани, которыми украсила себя Мерлок. Он сбросил с себя металлический ошейник, знак статуса, и электротатуировка, окружавшая его бычью шею, символ посвященного Механикус мирского ремесленника, заметно светилась. Ее твердые геометрические очертания вступали в резкое противоречие с заостренными линиями его черт, изящных даже в глубоком горе. Это было не принадлежащее Клайду
(не больше, чем это — мое)
лицо, но наконец-то Джанн подходила к пониманию того, как так могло быть.
Она поняла, что вновь говорит, даже не зная, есть ли у Клайда и Мерлок достаточно разума за тем, что скрывают их
(я почти могу вспомнить их)
лица, чтобы понять ее, но позволяя словам изливаться из нее, подобно лунному свету. Она говорила о том, как Галларди забрал машинное святилище у Токуина из-за шагов и песен, которые позвали его к кузне. Она говорила о своих озаренных луной снах, превращавшихся в пророчества, когда она рассказывала о них, и ее пальцы скользили по изящно пересекающимся кругам, вдавленным в ее странную, хрупкую кожу. Она говорила о воспоминаниях, которые видела во сне, и о сновидениях, которые не могла полностью вспомнить, о незнакомых, неуклюжих существах, которыми они все когда-то были, и их грубых именах (Галларди, Клайд, Мерлок, Джанн — что это, как не хрюканье и гогот животных?), о зловонной, низменной башне, которую они называли домом. Она говорила о храмовых «живых картинах», мистериях и мифических танцах, о празднестве Алисии Доминики, когда Святая встает перед королем с ликом, подобным солнцу, порой, чтобы обратить свой меч против предателя, порой, чтобы взмолиться за своих обреченных детей; о «Житии Махария», которое ее братья изучили до последнего слова, о генерале, что вел войну в небесах; о песни девяноста девяти мечей и великом раздоре эпоху назад, когда рука убийцы сокрушила героя-мученика и размазала его кровь, столь яркую и алую; об историях шести великолепных воинов, что вышли живыми из этого великого бедствия, готовые передавать дальше свет своего знания.
Это были хорошие истории, сильные истории, и они пели в ее крови, танцевали так же, как она в своих воспоминаниях танцевала под светом луны, под звуки барабана и цимбал — даже несмотря на то, что помнила, как все они плакали, выли и дергано пытались плясать на крыше башни, когда нашли
(я не хочу даже думать о них)
лица, взломали замки и нашли их, и…
Теперь всхлипывала уже Джанн, не замечая удивленных взглядов остальных — это была не ее роль, это были не ее па. Но она кое-как поднялась и отбросила скрученную палку прочь. У нее не было посоха, не было ожерелья из лунного камня, у нее едва ли оставалась собственная личность. По мере того как истории и танцы кристаллизовались у нее в голове, она чувствовала, как ее «я» разбивается на фрагменты и ускользает. Джанн хотела рассказать им, хотела прокричать им об этом, но тяжесть понимания была слишком велика, и все, что она могла — это плакать над тем, что с ними случилось. Она встала на ноги и перескочила через Клайда ломаным прыжком сломанного существа, которым она стала, и побежала к ближайшей лестничной площадке, все еще всхлипывая. Позади нее Клайд и Мерлок заключили друг друга в неуклюжие объятия, но Джанн не видела и не хотела их видеть. Теперь она понимала. Надежды не было.
Освещение рабочего яруса было отключено, и навстречу ей светили только приборы и устройства наблюдения. Она чувствовала, как обрывки ее разума извиваются и тянутся в двух противоположных направлениях, и на мгновение она прервала свой спотыкающийся бег, уставившись на чистую пластековую конторку, за которой она сидела, сосредоточенно изучая метеорологические таблицы и карты дюн. Края воспоминаний вновь легко коснулись ее. Вот она сидит за этим столом с красными глазами, зевая, пока Мерлок настаивает на том, что маршрут для профилактического обхода должен быть готов к началу утренней смены. Вот она за столом, в пятнадцатиминутном перырве, с кружкой горькой выпивки в руке, задыхается от смеха, в то время как Галларди и Круссман исполняют одну из своих коротких песенок, издевающихся над гильдийскими контролерами. Вот она глядит на погодные авгуры и говорит Мерлок, что да, теперь они могут отправляться, можно двигаться безопасно, и продумывает маршрут туда, где приборы показали нечто, поднесенное бурей к самому трубопроводу.