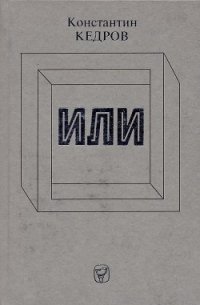Метакод - Кедров Константин Александрович "brenko" (читать книги онлайн бесплатно полностью без сокращений .txt) 📗
Пьер Безухов видит во сне хрустальный глобус:
«Глобус этот был живой, колеблющийся шар, не имею¬щий размеров. Вся поверхность шара состояла из капель, плотно сжатых между собой. И капли эти все двигались, перемещались и то сливались из нескольких в одну, то из одной разделялись на многие. Каждая капля стреми¬лась разлиться, захватить наибольшее пространство, но другие, стремясь к тому же, сжимали ее, иногда уничтожа¬ли, иногда сливались с нею... В середине Бог, и каждая кап¬ля стремится расшириться, чтобы в наибольших разме¬рах отражать его. И растет, и сжимается, и уничтожа¬ется на поверхности, уходит в глубину и опять всплы¬вает»
.
«Вожжи Богородицы»
Чтобы увидеть такую вселенную, надо подняться на вы¬соту, глянуть сквозь бесконечность. Округлость земли видна из космоса. Ныне мы всю вселенную видим как некую сияю¬щую сферу, расходящуюся от центра.
Небесные перспективы пронизывают все пространство романа «Война и мир». Бесконечные перспективы, пейзажи и панорамы битв даны с высоты полета, словно писатель не раз облетал нашу планету на космическом корабле.
И все-таки наиболее ценен для Льва Толстого взгляд не с высоты, а в высоту полета. Там, в бесконечно голубом небе, тает взор Андрея Болконского под Аустерлицем, а позднее взгляд Левина среди русских полей. Там, в беско¬нечности, все спокойно, хорошо, упорядоченно, совсем не так как здесь, на земле.
Все это неоднократно было замечено и даже передано вдохновенным взором кинооператоров, снимавших с верто¬лета и Аустерлиц, и мысленный полет Наташи Ростовой, а уж чего проще направить кинокамеру ввысь, вслед за взором Болконского или Левина. Но куда труднее кино¬оператору и режиссеру показать мироздание со стороны — взглядом Пьера Безухова, видящего сквозь дрему глобус, состоящий из множества капель (душ), каждая из которых стремится к центру, и все при этом едины. Так устроено мироздание, слышит Пьер голос учителя-француза.
И все-таки как же оно устроено?
На экране сквозь туман видны какие-то капельные структуры, сливающиеся в шар, источающие сияние, и ни¬чего другого. Это слишком бедно для хрустального глобуса, который разрешил в сознании Пьера загадку мироздания. Не приходится винить оператора. То, что видел Пьер, мож¬но увидеть только мысленным взором — это неизобразимо в трехмерном мире, но зато вполне геометрически представ¬ляемо.
Пьер увидел, вернее сказать, «прозрел» тот облик миро¬здания, который был запретен для человечества со времен великой инквизиции до... трудно сказать, до какого именно времени.
«Вселенная есть сфера, где центр везде, а радиус беско¬нечен»,— так сказал Николай Кузанский об этой модели мира. О ней рассказал Борхес в лаконичном эссе «Сфера Паскаля»:
«Природа — это бесконечная сфера, центр которой везде, а окружность нигде».
Кто внимательно следил за космологическими моделями древних в предшествующих главах (чаша Джемшид, ларец Кощея), сразу заметит, что сфера Паскаля, или глобус Пьера, есть еще одно художественное воплощение все той же мысли. Капли, стремящиеся к слиянию с центром, и центр, устремленный во все,— это очень похоже на монады Лейб¬ница, центры Николая Кузанского или «точку Алеф» Борхе¬са. Это похоже на миры Джордано Бруно, за которые он был сожжен, похоже на трансформированные эйдосы Пла¬тона или пифагорейские праструктуры, блистательно запе¬чатленные в философии неоплатоников и Парменида.
Но у Толстого это не точки, не монады, не эйдосы, а люди, вернее их души. Вот почему смеется Пьер над солда¬том, охраняющим его с винтовкой у двери сарая: «Он хочет запереть меня, мою бесконечную душу...» Вот что последо¬вало за видением хрустального глобуса.
Стремление капель к всемирному слиянию, их готовность вместить весь мир — это любовь, сострадание друг к другу. Любовь как полное понимание всего живого перешла от Платона Каратаева к Пьеру, а от Пьера должна распростра¬ниться на всех людей. Он стал одним из бесчисленных цент¬ров мира, то есть стал миром.
Совсем не так банален эпиграф романа о необходимости единения всех хороших людей. Слово «сопрягать»», услы¬шанное Пьером во втором «вещем» сне, не случайно сочета¬ется со словом «запрягать». Запрягать надо — сопрягать на¬до. Все, что сопрягает, есть мир; центры — капли, не стремя¬щиеся к сопряжению,— это состояние войны, вражды. Вражда и отчужденность среди людей. Достаточно вспом¬нить, с каким сарказмом смотрел на звезды Печорин, чтобы понять, что представляет собою чувство, противоположное «сопряжению».
Вероятно, не без влияния космологии Толстого строил позднее Владимир Соловьев свою метафизику, где ньюто¬новская сила притяжения получила наименование «любовь», а сила отталкивания стала именоваться «враждой».
Война и мир, сопряжение и распад, притяжение и оттал¬кивание — вот две силы, вернее, два состояния одной косми¬ческой силы, периодически захлестывающие души героев Толстого. От состояния всеобщей любви (влюбленность в
Наташу и во всю вселенную, всепрощающая и все вмещаю¬щая космическая любовь в час смерти Болконского) до той же всеобщей вражды и отчужденности (его разрыв с Ната¬шей, ненависть и призыв расстреливать пленных перед Бородинским боем). Пьеру такие переходы не свойственны, он, как и Наташа, по природе всемирен. Ярость против Анатоля или Элен, воображаемое убийство Наполеона но¬сят поверхностный характер, не затрагивая глубины духа. Доброта Пьера — естественное состояние его души.
Любовь Андрея Болконского — это какой-то последний душевный всплеск, это на грани жизни и смерти: вместе с любовью и душа отлетела. Андрей пребывает скорее в сфере Паскаля, где множество душевных центров — всего лишь точки. В нем живет суровый геометр — родитель: «Изволь видеть, душа моя, сии треугольники подобны». Он в этой сфере до самой смерти, пока не вывернулась она и не опро¬кинулась в его душу всем миром, и вместила комната всех, кого знал и видел князь Андрей.
Пьер «увидел» хрустальный глобус со стороны, то есть вышел за пределы видимого, зримого космоса еще при жиз¬ни. С ним произошел коперниковский переворот. До Копер¬ника люди пребывали в центре мира, а тут мироздание вывернулось наизнанку, центр стал периферией — множест¬вом миров вокруг «центра солнца». Именно о таком коперниковском перевороте говорит Толстой в финале романа:
«С тех пор, как найден и доказан закон Коперника, одно признание того, что движется не солнце, а земля, уничтожи¬ло всю космографию древних...
Как для астрономии трудность признания движений зем¬ли состояла в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства неподвижности земли и такого же чувства неподвижности планет, так и для истории трудность признания под¬чинения личности законам пространства, времени и причин состоит в том, чтобы отказаться от непосредственного чувства независимости своей личности».
Принято считать, что Л. Толстой скептически относился к науке. На самом же деле этот скептицизм распространялся лишь на науку его времени — XIX и начала XX века. Эта наука занималась, по мнению Л. Толстого, «второстепенны¬ми» проблемами. Главный вопрос — о смысле человеческой жизни на земле и о месте человека в мироздании, вернее — отношении человека и мироздания. Здесь Толстой, если надо, прибегал к интегральному и дифференциальному исчислению.