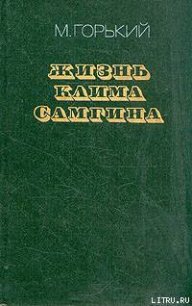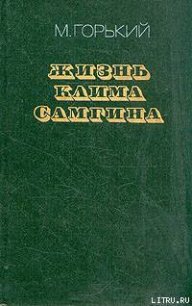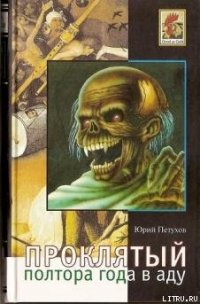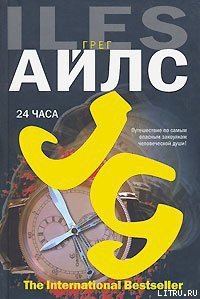Время грозы (СИ) - Райн Юрий (библиотека электронных книг TXT, FB2) 📗
Помолчали. Гостья — собираясь с мыслями, хозяйка — вероятно, из деликатности.
— Желаете чаю? — прервала паузу Маман.
— Спасибо, Анна Викторовна, — Наташа невесело улыбнулась. — Спасибо, нет. Я… не знаю, мне поговорить с кем-то надо. С вами. Десять лет, вы правы. Без малого. Я все о Максиме думаю. Завтра улетаю, там дела, там Федор, а думаю — о Максиме. Неспокойно мне, понимаете?
— Весной прибралась я у него на могиле, — невпопад ответила Маман. — Вы, Наталья Васильевна, должно быть, видели — в порядке содержится, не забываем… То есть — я не забываю.
— Можно мне вас попросить? — сказала Наташа. — Вы ведь старше меня… извините, я не для того, чтобы уязвить как-то… Просто знаю, что вы Максима по имени звали и на «ты». Вот и меня по имени — Наташей, можно? Мне так легче…
— Ишь ты, — усмехнулась Маман. — Так ведь Максим это одно, он свой. А вы… ты… разница в положении…
— Оставьте, — Наташа махнула рукой. — Какая там разница… Я о нем поговорить хочу, мне больше просто не с кем, а необходимо, иначе с ума сойду. Почти никто правды не знает, а из тех, кто знает… С Федором немыслимо, Румянцев отгородился — вину свою чувствует, что ли, — Ивана Михайловича уж сколько лет в живых нет, Джек тоже… А Владимир Кириллович… ну, сами знаете… Альцгеймер — это страшно…
— Я не все поняла, — сказала Маман, помедлив. — О болезни его величества — ты его имела в виду? — скорблю, а вот остального, прости, не поняла.
— Значит, не рассказал… Ну, слушайте.
И — прорвало.
…А история Максима получилась — странное дело — не такой уж длинной.
— Вот его тело, — заканчивала Наташа, — изуродованное, сгоревшее чуть ли не дотла, похоронено, а где-то он жив, я верю, что жив, хотя попал, оказывается, вовсе не домой. Господи! Он так рвался туда! Называл домом, а я знаю, что его сердце было уже здесь. Разрывался между тем, что чувствовал, и долгом, как понимал долг… Знаете, Анна Викторовна, порою так накатывает… Чувствую — жив, плохо ему, трудно неописуемо, борется за что-то — может быть, за то, чтобы вернуться сюда, к нам, ко мне… А уходил он, можно сказать, от вас. Не от меня, а от вас — отсюда. А я еще и такую вину перед ним ощущаю… Впрочем, что это я? Рассказала, вам, наверное, все дичью кажется. Выдумкой, сказкой. А я — сумасшедшей, да? Ну, все равно спасибо, что выслушали. Пойду…
— Погоди, — проговорила Маман. — Если время есть — погоди.
Она долго молчала, уставившись на стену. Потом подняла руки, потерла виски.
— Нет, — сказала, наконец, — выпить все-таки необходимо.
Встала, подошла к столу, нажала какую-то кнопку, произнесла:
— Алеша, арманьяку.
Закурила длинную черную сигарету, вернулась в кресло.
Подали арманьяк. Маман плеснула в два бокала, подняла свой, сказала:
— Чокаться не будем.
Выпив, продолжила:
— Спасибо, Наташа. Я теперь, стало быть, одна из посвященных. И как хочешь, но я тебе поверила. Жив Макс или нет — этого не знаю, — а нездешним он мне с первого взгляда показался. Даже не в том дело, что свет от него исходил. То — видимое. А исходил еще и невидимый свет, понимаешь меня?
— Конечно, — кивнула Наташа.
— Вот. А что до деталей этих — параллельные миры, переходы, система кодов личности, что там еще — образование у меня не то, чтобы сомнению подвергать. Да и чтобы вникать — тоже не то. Просто верю. Складывается оно все. Да и ты — думаю, могла бы такое сочинить, писательница же, только не про Макса. Тебе сколько сейчас? — спросила она вдруг.
— Сорок семь.
— А мне почти на двадцать больше. А Максима я… не то, чтобы любила, нет, не та я, чтобы влюбляться да сохнуть от чувства. Но привязалась очень. То ли как к сыну — детей-то у меня нет. У тебя, кстати, тоже?
— Я очень хотела, — призналась Наташа. — Максим вот… Как отрезал. Сказал, что не вправе такую ответственность на себя брать. А от Федора — и не хочу.
— Бедный Феденька, — пробормотала Маман. — Да, так вот к Максу то ли материнское испытывала, то ли все же женское. Очень он теплый… был…
— Есть, — твердо сказала Наташа, посмотрев собеседнице прямо в глаза.
— Дай бог, — отозвалась Маман. — Что ж, давай за это и выпьем.
Теперь чокнулись.
— А что ж за вина, о которой ты говорила? — спросила Маман.
Наташа поколебалась. Потом решила — а, чего скрывать? Столько наговорила…
— Это, Анна Викторовна, — обо мне. Этого уж совсем никто не знает. Только он, Максим, и догадывался, вероятно. Да нет — точно догадывался. И переживал из-за этого очень.
— Не томи, — попросила Маман.
— Не буду. В двух словах — я порочна. Всю жизнь борюсь, а победить не могу. Так иной раз накатывает… С ума схожу по плотскому. В мечтах — пока Максима не встретила — сколько раз сюда, к вам, приходила. Работать. Утолять этот голод. То в маске себя представляла, чтобы, не дай Бог, не узнали, а то и — в открытую. Разнузданно и безудержно.
— Эка невидаль, — усмехнулась Маман. — Ну и пришла бы. В маске, конечно. Я бы инкогнито твое раскрывать не стала.
— Смеетесь… Это только в мечтах. И все равно — гадко себя чувствовала. Даже не все равно, а тем более. Я же верующая, понимаете? Но даже на исповеди не признавалась. Тоже гадко… Такова, выходит, сила веры моей… Вот, только перед вами и исповедываюсь.
— Да, — без тени иронии произнесла Маман. — Я самый подходящий для такой исповеди объект. Между прочим, не шучу. Такой, как ты, — перед кем же еще раскрываться, как не перед хозяйкой публичного дома? Ладно… Ну, а перед Максом-то вина твоя в чем?
— А это просто, — Наташины щеки пылали, но останавливаться она не могла и не хотела. — Максим быстро все понял, я ведь с ним не сдерживалась совсем. Мне хорошо было с ним, так хорошо, что себя не помнила. Такое выделывала, такое произносила… Вот сейчас вспоминаю — и уже горю… И он — он откликался! Ах, как он откликался! А потом — задумываться начал. Мне ничего не говорил, но я чувствовала. Вбил себе в голову, что нужен мне только как самец. И подозревал, что если бы не он, то любой другой меня бы устроил. А мне он — да, именно как самец был нужен, это правда, поймите, но не вся, совсем не вся! Я — его — любила! И — люблю! А он страдал, и это моя вина, что не внушила ему… не знаю… спокойствия, что ли… Мне никого не нужно было, кроме него… Не сумела внушить, он еще и поэтому ушел…
— Дура ты, — сказала Маман. — Мужчины, они, знаешь ли… Уж мне можешь поверить. Впрочем, не стану тебя разубеждать, чего бы ради? И не жаль мне тебя нисколечко, ты сама себе это выбрала. Вот Феденьку — жаль.
— Федор очень хороший человек, — ответила Наташа. — И очень любит меня. А я его ценю, уважаю, дорожу им, но любви — любви нет. Он знает. И что мне мужчина нужен — тоже знает. И к роли своей — притерпелся.
— Я и говорю — жаль его, — повторила Маман.
— Жаль, — кивнула Наташа. — Еще и потому жаль, что знает он: вернись вдруг Максим — все брошу…
— Надеешься?
— Не знаю…
Помолчали. Маман опять закурила. Глубоко затянулась, резко выдохнула, сухо сказала:
— Мне, конечно, легче, чем тебе. Гораздо легче. Я Максом не владела, и уходил он от тебя, а не от меня. Помню его, и не забуду, но таких высоких страданий не испытываю. Да и не способна на них. Где мне. Я же сука.
Она помахала ладонью, разгоняя дым, и добавила совсем другим тоном:
— Но я же и женщина. Потому мне и тебя все-таки жалко. Чуточку. Как-нибудь посидим с тобой — да хоть в «Крыме», — расскажу, что повидать довелось, и про мужчин расскажу. Может, развеется дурь твоя.
Наташа покачала головой.
— Спасибо. В чем я уверена — в том уверена. А посидеть — с удовольствием. Правда. Вот вернусь из Поселений… к зиме…
Маман поднялась с кресла. Снова сделавшись деловой и холодной, произнесла:
— И тебе спасибо. А теперь — иди. Ты улетаешь, дела еще есть, должно быть. Да и мне за хозяйство приниматься пора, тут глаз спускать негоже, дрянь народец-то. Ну, все. Феденьке поклон передай. Вернешься — дай знать. И совет тебе: попробуй про Макса книжку написать. Ей-богу, легче станет. Иди, иди.